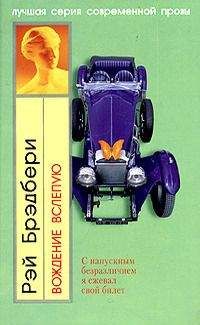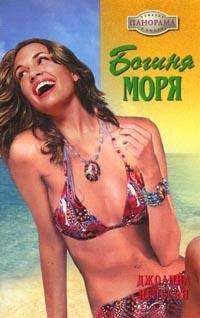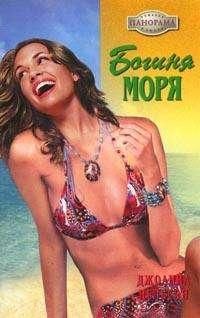Линда Грант - Все еще здесь
И что, спрашивается, я здесь делаю?
Хотите знать правду? Приехал повидать Алике Ребик. Я по ней соскучился. Честно. Не хватает ее юмора, ее прямоты, ее саркастических реплик. Не могу забыть, как она держалась в клубе у Ричи Силвестера. И лицо ее тоже не идет из головы. Пытаюсь представить Эрику на ее месте, в той комнатке со стриптизершами, — не могу. Не получается. Ее и в Ливерпуле-то представить себе нельзя. Ей бы в голову не пришло сюда поехать. Да, Европу она обожает. Но под «Европой» понимает Париж, Венецию, Флоренцию. Города без острых углов. Круглые, как яблочко. Как она сама… была когда-то.
Нет, спать с Алике я не собираюсь. Просто поговорить. Рассказать об Эрике, обо всем, что со мной случилось, и спросить совета. По-моему, если кто и поможет мне выпутаться из этой передряги, так только она. Когда в холле она спросила меня, зачем я приехал, и я ответил: «Просто каприз», — это была, конечно, не совсем правда. «Капризом» это не назовешь. Правда в том, что я приехал, сам не очень понимая зачем, и это меня смущает: как правило, я не совершаю бессмысленных поступков. В тот день на пляже я сказал Алике, что хотел бы стать для нее другом, а не любовником — и это чистая правда. Я хочу с ней дружить.
Переписываться по электронной почте, делиться свежими анекдотами, рассказывать о своих новых проектах, а когда выбираюсь в Лондон (а я там бываю довольно часто), выпивать с ней в пабе или где-нибудь вместе ужинать. Не совсем обычные отношения между мужчиной и женщиной — и что с того? Мне хватит. Сэму я, кстати, рассказал об этом, и он меня поддержал.
А что же Алике? Во время разговора со старухой я не сводил с нее глаз. Немецкий я немного понимаю, хотя говорить не могу; это потому, что в Хайфе жил дверь в дверь с пожилой дамой из Австрии, одной из тех, кого в Израиле называют «йекки» — иммигранты тридцатых годов; суровая была старуха, одевалась безупречно, ходила в перчатках и шляпе — даже в самую жару. Они с Марианной Кеппен могли бы быть сестрами — та же гордость и властность, та же безнадежная страсть к высокой культуре. На иврите она без крайней необходимости не разговаривала, по ее мнению, это был варварский язык; и, когда у нас случались споры из-за мусора во дворе или из-за нашего кота, писавшего ей под дверь, пожилая леди обрушивала на нас потоки возмущенной немецкой речи, которую я довольно скоро начал более или менее понимать. Пробовал даже отвечать ей тем же, но она так шипела и фыркала на мои грамматические ошибки, что пришлось от этого отказаться. Однако я часто слышал, как она разговаривает со своим братом — тот вместе с ней не уехал, прошел лагеря и попал в Израиль только в сорок девятом. Видел я его только раз, возвращаясь со сбора резервистов; он стоял на пороге, опершись рукой о косяк, рукав у него задрался, и я разглядел вытатуированный на предплечье номер. Он взглянул на мою винтовку, перевел взгляд на «конский хвост», подпрыгивавший у меня на затылке, обернулся к сестре и сказал: «Что делается в этой стране — совсем мальчишка, а уже с оружием!»
Вот почему я прислушивался к беседе Алике и фрау Кеппен, не вмешиваясь в разговор, стараясь уловить самое основное, чтобы потом расспросить Алике о деталях. Потрясло меня то, что Алике молчала. Слушала молча, застыв на месте, жадно впитывая информацию. Вдруг узнать, что Марианна Кеппен ее тетка, — это, наверное, стало для нее огромным потрясением, но Алике ничем не выдала своего изумления. И рассказ о бомбежке Дрездена выслушала спокойно, не морщась, не восклицая: «Ах, какой ужас!» — не задавая столь любимых людьми идиотских вопросов типа: «И что вы при этом чувствовали? Наверное, было очень страшно?» Правильно задавать вопросы умеют очень немногие, но еще меньше тех, кому дан талант выслушивать ответы. Иногда этот дар встречается у журналистов (настоящих первоклассных журналистов, не тех, что гоняются за знаменитостями); одного или двух таких я встречал во время войны. Такие люди умеют расспрашивать о пережитом, не ахая и не охая, не задавая чересчур личных вопросов, не спотыкаясь в поисках «правильных» слов. Но большинству — в том числе и моей семье — этого не дано.
А Алике Ребик просто сидела и слушала. Не шевелилась, не отрывала глаз от Марианны Кеппен. Кресла, в которые усадила нас Марианна, были неудобные, с жесткими деревянными спинками, и моя спина меня просто убивала; но Алике ни разу не заерзала, чтобы сесть поудобнее, не шевельнула ни единым мускулом. Как бы ни поразил ее рассказ Марианны, проливающий новый свет на историю ее семьи, — она сидела и слушала. Слушала, запоминая (как я убедился в послеобеденном разговоре) все до последнего слова.
Сейчас мы сидим в ресторане, едим омара. Люстра под потолком отбрасывает на лицо Алике тени, которые ее не красят; мне хочется предложить ей поменяться местами, но неловко. На шее блестит бриллиантовое ожерелье, и высокая грудь вздымается под красным платьем, когда она начинает говорить.
Вот что она говорит:
— Как бы мне хотелось понять, существует ли зло.
— И часто ты об этом думаешь? — спрашиваю я.
— Иногда, — отвечает она.
Мне вспоминается случай на ливерпульской улице: когда мы возвращались домой после партии в теннис, к нам подошла какая-то женщина и попросила подписать петицию. Петицию о том, чтобы двоих десятилетних мальчиков, убивших мальчика помоложе, не отпускали на свободу. «Потому что они — само зло», — добавила она.
Однако Алике с ней не согласилась и твердо стояла на своем — не захотела даже ручку в руки взять. Они спорили прямо на улице; другие люди подходили, ставили подпись и неодобрительно косились на «защитницу этих выродков» — но она стояла на своем. Меня
это тогда очень впечатлило. Может быть, поэтому я и поцеловал ее на пляже.
— Помнишь тех ливерпульских ребят, что убили маленького мальчика? Ты ведь не считаешь, что они — само зло.
— Не о них речь. Я спрашиваю себя, является ли то, что они сделали, злом независимо от их намерений. Существует ли зло вне нас самих.
От этих слов по спине у меня пробегает холодок.
— О чем ты, Алике?
— О том, что зло порождает зло, и новое зло уже не зависит от своего источника.
— Например?
— Ребенок, над которым издевались в детстве, став взрослым, сам начинает тиранить тех, кто слабее. Народ, которому приходилось много сотен лет бороться за свое существование, который привык жить в атмосфере страха и ненависти, привык постоянно и болезненно помнить о нанесенном ему невосполнимом ущербе, — такой народ легко может перейти грань между самозащитой и агрессивным безразличием к чужой судьбе. Это воинственное отношение к миру, так распространенное среди евреев, это восхищение «крутыми парнями», вроде Голландца Шульца или Ариэля Шарона… знаешь, ведь это болезнь, и болезнь заразная. Я и сама ей подвластна.