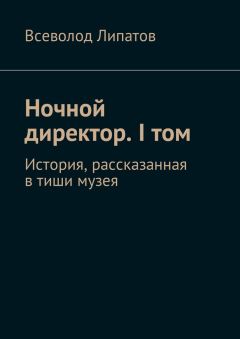Даниэль Буланже - Клеманс и Огюст: Истинно французская история любви
— Мне что-то холодно, Огюст. Согрей меня.
Я крепко обнял ее, и она, прижавшись ко мне, прошептала:
— Знаешь, эта старая жаба нагнала на меня страху. Нет, правда, она меня напугала. Мои фразы в ее устах походили на старую шкуру, которую сбрасывает змея.
Потом я почувствовал, как Клеманс обмякла и выскользнула из моих объятий, я ощутил, как она отодвинулась от меня. Она заснула. Я не замедлил догнать ее и тоже погрузился в сон. Я так привык к тому, что днем препарировал ее сны и снабжал ее идеями для новых грез и мечтаний, что и по ночам я исполнял все ту же роль исследователя и снабженца, так что мне случалось говорить во сне. Обычно по утрам Клеманс, спавшая очень чутко, повторяла мне все то, что я наболтал за ночь, и чаще всего это было именно то, в чем она так нуждалась и что она понапрасну сама искала в путанице мыслей, вихрем проносившихся в ее мозгу во время приступов бессонницы, мучивших ее все чаще. Мы были тогда так близки, что у нас словно был общий корм, один рот на двоих, одни челюсти, пережевывавшие этот корм, одни органы пищеварения, мы представляли собой некое единое существо, некое подобие кентавра-гермафродита, у которого торс попеременно принадлежал то женщине, то мужчине.
* * *Клеманс, «вступив в первый контакт» с руководством нашего издательства, в разговоре с главным редактором солгала, но эта ложь была во имя любви и ради любви. Итак, Клеманс «призналась» патрону, всегда высоко ценившему меня и мои знания, в том, что я к ее первому роману якобы не имел абсолютно никакого отношения, что я не сыграл в его судьбе абсолютно никакой роли и т. д. Мое имя фигурировало на ее рукописи в виде традиционной подписи под рецензией, завершавшейся лаконичной фразой: «Прочитано и одобрено; вполне достойно опубликования». Короче говоря, мне предстояло получать причитающиеся мне проценты в качестве литературного агента от доходов, полученных от продаж ее книг. Был составлен контракт на пять ее последующих произведений. Когда мы уже выходили из кабинета, патрон, как оказалось, совсем не дурак, вцепился мне в рукав пиджака и задержал на мгновение.
— Она целуется хорошо?
— Да, прекрасно.
— Ну так воспользуйтесь хоть этим, потому что ее писанину мы отпечатаем тиражом в четыре тысячи экземпляров, и черт меня подери, если мы сумеем продать весь тираж!
Вечером того дня, когда контракт был подписан, он пригласил нас на ужин в одно вошедшее в моду у богемной публики бистро и там вел себя с нами так, будто мы были какими-нибудь родственниками его супруги, прибывшими из бог весть какой глуши, чуть ли не из заброшенной деревушки в Карпатах, но по его движениям, по тому, как он вонзал вилку в мясо, я понял, что он испытывает чувство голода и утолить этот голод он сможет, лишь «закусив» этой роскошной высокой женщиной, которую откопал я… и где? И как? И почему именно я, такой невзрачный, такой заурядный тип, такой простак, у которого уже весь нос испещрен тонкими морщинками? Три томных бледных официанта с красными «бабочками» на тонких шеях ловко сновали вокруг нас, умудряясь не мешать друг другу и в то же время подавать новые блюда и убирать грязные приборы и серебряные горшочки, в которых для нас готовили изысканные яства. Около входа за поблескивавшим белой эмалью фортепиано сидел пианист и наигрывал знакомые мелодии прошлых лет, вполне соответствовавшие колориту заведения, который ему придавали слегка пожелтевшие фотографии артистов, покрывавшие стены зала. Еле заметно ощущавшийся запах скипидара смешивался с запахом сигар и еды; в зале царил мягкий полумрак, и легкая дымка сгущалась вокруг крохотных абажурчиков, составлявших предмет гордости бистро и возносившихся над круглыми столами на одной массивной ножке.
— За здоровье Маргарет Стилтон! За долгую и счастливую жизнь ее романа «Больше, чем любовь»! — провозгласил наш щедрый хозяин после десерта, поднимая маленькую рюмочку с арманьяком.
Но к его великому изумлению, Клеманс выпила драгоценную влагу залпом.
— Да, я знаю, так не делают, — сказала она. — Надо было вести себя как кошечка, осторожненько попробовать, пощелкать язычком, оценить вкус, цвет и запах, облизнуть губки, прищурить глазки и вообще заниматься всякой чепухой, но мне ужасно хотелось увидеть выражение вашего лица.
Моя роскошная женщина расхохоталась, а патрон явно почувствовал, как в глубине его души зашевелились подозрения относительно невинности и простодушия его деревенских родственников, а также и относительно того произведения, которое он согласился на сей раз опубликовать, не веря в его успех.
— Я вас провожу, — сказал он. — Куда вы направляетесь?
— К Огюсту, — ответила Клеманс. — Пожалуйста, постарайтесь избегать улиц с односторонним движением. Подбросьте нас к Институту Франции. Огюст любит ночью немного пройтись пешком, и я тоже.
Мы помахали руками в ответ на его победный прощальный гудок, изданный клаксоном его воистину министерского автомобиля, а потом мы обнялись, прижались друг к другу и отправились «немножко полюбезничать» во внутренние дворики или подъезды. Для нас всегда находилось какое-нибудь укромное местечко; иногда там была консьержка, а иногда и не было. Дворики попадались ухоженные и запущенные, порой совсем пустынные и тихие, а порой и такие, где еще слышались отзвуки шагов прохожих и доносился шорох проезжавших мимо машин; иногда эти дворики были унылы и печальны из-за того, что их окружали высокие мрачные дома, а порой бывали и довольно уютные, так как на нас смотрели темные окна и только одно светилось каким-то теплым, детски невинным светом, и всегда во всех этих подъездах и двориках ощущался какой-то запах сырости, запах чего-то постыдного, как будто тебя застали на месте преступления, когда ты в детстве из озорства опрокидывал помойные ведра, и вот теперь воспоминания об этих мгновениях нахлынули на тебя взрослого. Темные улочки приводили в конце концов нас в наши владения, в наше царство (площадь которого была столь невелика, что ее могли бы покрыть два ковра), и там мы, два податливо-гибких дуэлянта-соперника, готовые к применению и отражению любых фехтовальных приемов и ударов, воздавали почести «Милосердию Августа» вне зависимости от того, чей свет изливался на нас: чувственно-сладострастной лампы или невинных молодых звезд.
Утром, после проведенной в «Золотом орехе» ночи, мы проснулись и обнаружили хозяйку гостиницы в столовой. Она читала, сидя у огня. Кофейник с длинным выгнутым носиком ждал нас, стоя в кучке вспыхивающих углей и белого пепла.
— Я только что кончила читать вашу историю, — сказала вдова Леон. — А скажите, ребенок, которого доставляют в конце романа на яхту князя, какого пола? Это мальчик или девочка? Вы ничего об этом не говорите. Так что любопытство читателя остается неудовлетворенным. А ведь от этого многое зависит… Ну, вы понимаете, ведь это может быть наследник трона? А если это девочка, то могут ли наследовать в той стране трон женщины? И обладают ли они правом старшинства?