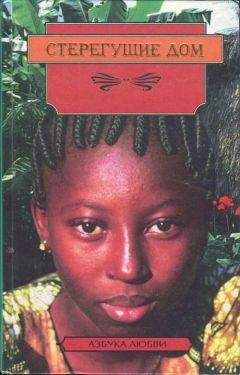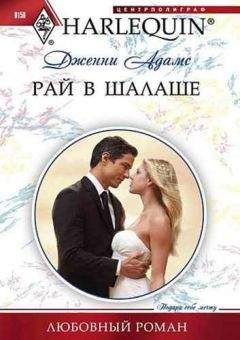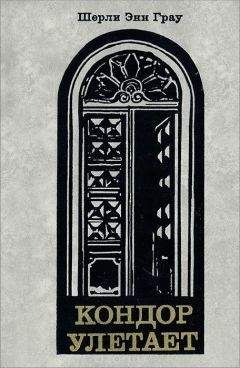Шерли Грау - Стерегущие дом
Он повернулся к выходу и заметил, как перед самым его носом в дверь прошмыгнул Эрнест Франклин и торопливо заковылял по улице растрезвонить последнюю новость. Он был стар и страдал артритом и, точно вспугнутый краб, раскорякой спешил к веранде гостиницы «Вашингтон». Поднялся по ступенькам, хватаясь за медные перила, и скрылся за плотно оплетенной вьюнком решеткой веранды.
Рассказывают, что Уильям Хауленд остановился посреди главной улицы, по щиколотку в сухой горячей пыли, и разразился хохотом. Люди высовывались из дверей фуражной лавки Эйнсворта и не могли понять, то ли его хватил солнечный удар, то ли спивается человек втихомолку и вот помешался. Наконец он отер слезы большим голубым носовым платком, досуха вытер щеки, подбородок и без улыбки поглядел в их сторону. Он поглядел на ряд голов, на возню и толкотню — те, кому сзади было не видно, напирали и протискивались вперед — и очень громко, очень внятно сказал:
— Ну и сукины вы дети!
Беззлобно так сказал.
Городишко проглотил обиду не сразу. Люси Уитмор — ее голова тоже торчала в то утро из дверей фуражной лавки — даже раздумала было звать его на свадьбу своей дочери. Когда, эдак с неделю спустя, Уильям встретился ей на улице, Люси держалась с ним суховато: пусть знает, что она почти решила не посылать ему приглашение, только ему одному во всем городе, да еще младшей дочери Лайксов, которая вышла замуж за католика, венчалась в католической церкви, и теперь с ней никто не разговаривал, хотя все любили ее родителей — она сейчас жила у них в ожидании первенца. Уильяма, казалось, лишь забавляли церемонные ответы Люси Уитмор. Он осведомился, как поживает ее дочь, синие глаза его при этом лукаво поблескивали, смеялись.
— Ну, как она? Как молодой муженек?
— Они еще не женаты, — сдержанно ответила Люси.
— А-а, понимаю, — мягко заметил Уильям, — главное сперва, а прочее во благовременье. — Он кивнул и зашагал своей дорогой.
Люси Уитмор пошла дальше, с негодованием думая о дочери и яростно твердя себе, что другого и ждать нечего, когда у тебя в семье играют свадьбу, чтобы покрыть грех. И решила, что Уильяма Хауленда, несмотря на его грубые намеки, не позвать нельзя.
Городок не умел долго сердиться — особенно на Уильяма Хауленда. Ну, не пригласили, против обыкновения, на ужин к Фрейзерам в первое воскресенье месяца. Ну, к Петерсонам не позвали, когда приехала погостить их родственница из Лафайета. Но его это как будто не трогало, родственницу же не успели первый раз повезти собирать ягоды, как она угодила в жгучие заросли ядовитого сумаха — и, кстати, не где-нибудь, а в хаулендовом лесу.
Недели через две все пошло по-старому. Не то чтобы случай с «Трибюн» забыли или забыли это насмешливое «сукины дети» в жаркой тишине пыльного утра… Просто ничего не могли поделать, прибавилось о чем посплетничать на его счет, и только. Как-никак он оставался самым завидным из местных женихов, и непонятно, почему ему так нравилось растить дочь в одиночку. Не было человека в округе, который не ломал бы голову над этой загадкой; немало находилось и таких, кто пробовал найти ей решение. Правда, к этому времени Уильям Хауленд был уже в годах, но все равно за него пошла бы любая вдова и любая разведенная, и даже очень многие из молоденьких девушек на выданье. С виду он все еще был мужчина хоть куда, только усы сбрил и волосы стали редеть. А главное, он был Хауленд, чистокровный Хауленд — самый почтенный род в округе, лучшие земли, самые большие деньги.
Его сестра Энн — она приезжала каждый год (раз он никак не соглашался ехать к ней) и привозила ему на погляденье очередного отпрыска — одна только отваживалась заговаривать об этом открыто. И частенько заговаривала — где-нибудь у подружки детства, сидя под вечер за шитьем или вязаньем в плетеной качалке на затененной веранде или раскрашивая для Лиги женщин-евангеличек рождественские открытки. Подожмет губы и скажет:
— Нет, это неприлично. Жена ему необходима, значит, и должен жениться. А то шестнадцать лет как схоронил свою, а ведет себя, как будто она отлучилась проведать родных.
Дамы кивали головами и соглашались, что это правда.
Дочка Уильяма Абигейл окончила школу. Высокая, худенькая, с длинными белобрысыми волосами. Почти у всех ее ровесниц был хотя бы один постоянный воздыхатель — у нее не было никого. Казалось, это ее не занимает. Она была так застенчива, что не получала удовольствия от балов, а танцевать вообще не умела. Все вечера просиживала дома в большой мягкой качалке и читала, читала без конца. «Трибюн», как выяснилось в первые же две недели, оказалась трудновата для нее. Газета приходила год за годом, но Абигейл в нее больше почти не заглядывала. Она вообще читала только стихи: Шелли в изящном сафьяновом переплете с монограммой ее прабабки, Йейтс — его она читала вслух. Сидела, смотрела сквозь тенистую завесу глициний на блистающий день и роняла в пушистую зелень:
Из врат дневных рвется ветра порыв.
Одинокую душу он обовьет.
Ее дыханьем своим иссушив,
А феи где-то ведут хоровод…[1]
Все в доме, отец и слуги, скоро привыкли к напевным звукам ее голоса. И даже немножко гордились ею. Разве не поэтично, когда сидит молодая девушка, совсем одна в вечерний час, и на ее устах журчат стихи, и только в ясных, широко открытых глазах — пыл и томление семнадцати лет?
Потом она уехала в колледж Мэри Болдуин, в Виргинию. Ее отвез туда отец — так она впервые покинула пределы штата. Ей не очень-то хотелось ехать, но отец считал, что надо, и она послушно снарядилась в дорогу.
Она уехала, а в городке принялись пророчить ей будущее. Большей частью сходились на том, что быть ей старой девой, сидеть в пустом огромном доме и переворачивать высохшими безжизненными пальцами страницы книжек. Прорицатели сокрушенно качали головой: повыведутся настоящие Хауленды, и ладно бы только имя, а то ведь и самый род…
В первое лето она приехала домой на каникулы худенькая, как тростинка, — щеки чуть тронуты румянцем после холодной горной зимы. Мигом уговорила отца купить ей лошадь, смирную, почтенных лет кобылку, и стала надолго уезжать, с утра пораньше, всегда без провожатых. Люди судили да рядили, но вскоре толки затихли, потому что вечера она по-прежнему проводила дома, в беседке у края газона. Построил ее Уильям Хауленд — это был его сюрприз к приезду дочери. Беседка получилась, как игрушечка; в городе каждый знал о ней все досконально, хотя мало кто видел. Решетки — изящные, точно кружево; карнизы и стропила в богатой резьбе — крутые завитки, виноградные гроздья. Вдоль стен шли диванчики, обитые голубым в белую полоску ситцем; посередине — стол, восьмиугольный, как и сама беседка. Сработан на заказ. Здесь и проводила летние дни Абигейл Хауленд; теперь она сама писала стихи. И еще письма. Роберт Эйнсворт из почтовой конторы живо подметил, что хотя бы раз в неделю ей непременно приходит письмо. Причем почерк один и тот же, а штемпели разные. Из чего мистер Эйнсворт заключил, что у Абигейл Хауленд наконец-то завелся поклонник, и поклонник этот — коммивояжер. А иначе откуда же на письмах разные штемпели, объяснял он кучке завсегдатаев фуражной лавки под щелканье каленой кукурузы и земляных орешков.