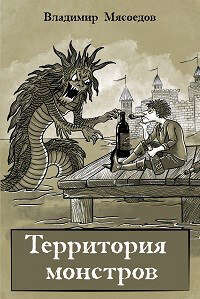Жаворонок Теклы (СИ) - Семенова Людмила
В молодости Айвар прочел памятную для любого чернокожего на свете книгу «Хижина дяди Тома» и скептически воспринял ту часть, где говорилось о проповедях главного героя на страшной южной плантации. Они смягчили и расположили к нему местных рабов, которые успели вконец очерстветь друг к другу и к собственной душе. И тогда Айвар откровенно над этим смеялся: можно подумать, что до бедолаги Тома там не появлялись другие мудрые, религиозные и сильные духом африканцы! Почему же никому из них не удавалось зажечь в этих несчастных проблеск человечности, а вот ему удалось?
Но жизнь показала, что все-таки есть люди, способные на такое больше прочих, и Айвар не без потаенного удовольствия понял, что сам является одним из них. Раньше, в счастливые годы, ему не приходилось заострять на этом внимание.
Начальство в конце концов доверило Айвару распоряжение инвентарем и надзор за уборкой, и как только он смог самостоятельно закупать анальгетики и средства гигиены, обстановка заметно улучшилась. И он понял, на какие рычаги следует нажимать, чтобы это устроило всех. Правда, мужчина трезво отдавал себе отчет, что не везде подобный дар может оказать действие, и в гостях у родителей Налии и шутя, и горестно делился с ними: «А ведь хорошо, выходит, что я не остался в России! Здесь приходится иметь дело только с полуграмотными дураками, которые даже о собственной выгоде мыслят нахватавшись чего-то с поверхности. А там на их месте были бы вполне сообразительные подонки, отлично знающие, чего стоит их навар на нищих и полуразвалившихся больницах. С такими я бы уже вряд ли справился».
Выезды в Семеру для Айвара были одним из немногих способов перевести дух. За стариками приглядывали слуги, хорошие и честные люди, но ему все равно приходилось контролировать расходы на хозяйство и лекарства, в особых случаях ездить за покупками, вызывать врача, какие-то процедуры выполнять самому, а главное — поддерживать их душевно. Агарь, как большинство женщин, сохраняла бодрость духа лучше, чем муж, который уже практически перестал покидать дом и только когда приезжал зять, соглашался ненадолго выйти на свежий воздух, опираясь на его руку. В присутствии Айвара старики слегка оживлялись, старались хоть немного отблагодарить его ответной заботой и непременно кормили его горячим супом и жареной картошкой. В такие моменты, за семейным столом, ему начинало казаться, что Налия просто уехала по работе и скоро вернется с хорошими новостями, а остальное было только страшным сном.
От нее время от времени приходили новости, краткие и сухие, без намека на душевное излияние. Впрочем, другого Айвар и не ожидал, но они вселяли в него хоть немного бодрости, которой в нынешних условиях крайне недоставало. Самое плохое было не в хозяйственных нуждах, с которыми он вполне справлялся, а том, какой унизительной казалась ему эта жизнь. Отчасти поэтому Айвар отказался от постоянного помощника и не желал никого подпускать к себе близко.
Помощь ему, по большому счету, и не требовалась: обеспечивать самого себя сейчас было несравненно легче, чем работать из-под родственной палки, когда он был подростком. На машине было несложно наполнить все имеющиеся канистры колодезной водой, запастись в Семере керосином, а в самом поселке купить сигарет и самой простой провизии, которую и не нужно было готовить. Айвар быстро привык питаться одним хлебом, творогом и медом. Но все это приходилось успевать до заката солнца, а керосина и воды всегда должно было хватить на непредвиденный случай. И теперь Айвар хорошо понимал, что в уме, озабоченном подобными правилами, нет места для чего-либо абстрактного и неосязаемого.
Дни для него теперь проходили одинаково, начинаясь с интуитивного, без помощи всякой техники, пробуждения. Предстояло разжигать керосинку, заливать воду в рукомойник, идти в туалет, который он огородил фанерными стенками, умываться, пить суррогатный кофе и собираться на работу. В больнице имелся кое-как оборудованный душ, под которым можно было смыть пот в конце дня, а белье и рубашки приходилось застирывать дома самому. Вечером оставалось поесть, прибраться, выглянуть на уже темнеющую улицу, которая все еще почему-то его притягивала, и ложиться спать. Впрочем, за этими хлопотами было легче коротать дни, притупляя хроническое чувство безнадежности.
Помимо выездов в Семеру, один раз Айвару пришлось добраться и до столицы. Его сильно напугал приступ головной боли, который накатил в день переезда, и впоследствии эти спазмы стали повторяться, сопровождаясь сильной тошнотой. Несколько товарищей из госпиталя Красного Креста, когда он им на это пожаловался, охотно пошли ему навстречу, помогли сдать все анализы и даже пройти томографию мозга, хоть и тайно.
Никаких новообразований, к счастью, исследование не выявило, однако по клиническим симптомам медики предположили, что Айвар мог незаметно подхватить какой-то вирус в одной из рабочих поездок, который сказался на внутричерепном давлении. Врач пояснил, что такое осложнение могло вообще никогда не проявиться, но из-за сильного стресса, должно быть, сорвалась какая-то пружина.
— По-моему, теперь тебе уже точно надо уехать в Россию, хотя бы до освобождения Налии, — заметил он. — Там и лекарства лучше, и климат более щадящий для твоей бедной головы, Айви. Ей и так по жизни много досталось.
— Как раз теперь об этом не может быть и речи, — возразил Айвар. — Налия будет страдать в Африке, а я дышать здоровым морским воздухом? На кого я стариков здесь оставлю? А больница? На меня там рассчитывают, у меня есть задача, а с этим давлением можно протянуть очень долго. Да и кому я там нужен, в России-то?
Однако он умолчал еще кое о чем: помимо чувства долга перед семьей и пациентами, его удерживал пробудившийся странный азарт, с которым он хотел победить не только бедствия в отдельной африканской провинции, но и что-то в себе самом. Айвару казалось, что жизнь бросила ему совсем особый вызов, и он понемногу входил в его пикантный вкус.
Диуретические препараты ему все же назначили, но со временем вспышки головной боли участились, особенно к ночи и с наступлением рассвета. К тому же, климат в Афаре был очень жарким и засушливым, а в деревне постоянно стоял тяжкий смрад.
Занять себя в домашних стенах было нечем, и Айвар шел в поселок в предзакатное время — хотя поначалу местные боялись его угрюмого взгляда, постепенно он с ними поладил. Он по-прежнему дивился скудоумию эфиопской бедноты. Они могли устроить могильник для сброса палых животных и останков освежеванных рядом с местом, где пасется еще здоровый скот. В другой раз хозяева не выбрасывали тушу серьезно больной скотины, считая, что достаточно отрезать пораженную сепсисом конечность, а остальное мясо поделить. Часто не смущались и тем, что в ведрах с молоком заводятся опарыши. По этим причинам Айвар никогда не покупал и не брал даром никакой еды в деревне — в Семере с санитарной обработкой обстояло чуть лучше.
Но он всегда жалел их и помогал, когда требовалось что-то починить, поднять или привезти на машине, когда кто-то заболевал или калечился. Айвар никогда не держался высокомерно и помнил, что является одним из этих людей, что его предки жили в таких же условиях и лишь благодаря целеустремленности отца и матери он смог получить достойное воспитание. О себе он почти ничего не рассказывал, кроме того, что работал в больнице и жил в Аддис-Абебе, которая для соседей была как недостижимый мираж.
Впрочем, временами самому Айвару все, что было до светлых дней в госпитале и с Налией, казалось сном или выдумкой. Он давно не удивлялся тому, что все простые эфиопы живут только сегодняшним днем, не ведая ностальгии, и сам понемногу начинал забывать это чувство. Покажи кто-нибудь ему сейчас того парня, который шел от бара до городской окраины по залитому тусклым светом фонарей шоссе, или того негритенка, который от души радовался проплывающему мыльному пузырьку, ягодке земляники в траве или севшей на ладонь бабочке-капустнице, — он, возможно, не узнал бы ни того, ни другого.