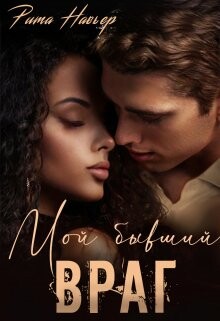Подонок. Я тебе объявляю войну! (СИ) - Шолохова Елена
— Не надейся, Смолин, — смеется она и распахивает передо мной дверь: — Велкам!
51. Женя
— Проходи, разувайся, раздевайся, — приглашаю Смолина. — Сейчас тебе тапочки найду.
Вижу, как он корячится, пытаясь снять куртку, вижу, что ему это дается с трудом, что больно ему.
— Давай помогу? — предлагаю совершенно искренне. Ну просто смотреть невозможно, как он мучается.
Но Смолин, вскинув брови, запальчиво отвечает:
— Еще чего!
Он крепче сжимает челюсти и рывком скидывает куртку. А потом сразу приваливается к стене, словно ему надо отдышаться и в себя прийти. Бледный такой, на лбу крохотные бисеринки пота. Но зато сам…
Пару раз шумно выдохнув, он начинает осматриваться.
У нас с мамой, конечно, далеко не хоромы. И ремонт давным-давно не делался. Но как уж есть. Хорошо хоть я на днях, перед маминым возвращением из больницы, устроила генеральную уборку.
— Кстати, ты откуда так поздно? — интересуется Смолин.
— От мамы.
— Так ночь уже почти!
— Да, припозднилась, — соглашаюсь я. — Меня Арсений после уроков сильно задержал… готовились к олимпиаде.
Смолин кривится и едва слышным шепотом отпускает в адрес математика ругательство.
— В общем, освободилась поздно. Потом пока домой добралась… А мне обязательно надо было к маме. И так вчера не ездила. А реабилитационный центр очень далеко. Туда я еще нормально уехала, а обратно… в общем, долго не было автобуса.
— Опасно девушке так поздно одной ходить, — сообщает он назидательно.
— Может быть, и опасно, но из нас двоих битый ты.
— Все-таки, Гордеева, ты — чума и язва здешних мест, — вздохнув, выдает он цитату из басни Крылова. — Я вообще-то от чистого сердца хотел предложить подбросить тебя в следующий раз…
— Ну раз от чистого сердца, то можешь завтра утром подбросить, — наглею я. — Мне как раз опять туда надо.
— Не вопрос, — улыбается он.
— Идем в ванную, — зову я Смолина. — Тебе нужно кровь хотя бы смыть. Ну и почиститься не мешало бы.
Джинсы его и правда все в грязи, как и куртка.
— Капец, — оглядев себя, присвистывает он.
— Может, в стиральную машину вещи закинуть? — предлагаю ему.
— А у вас есть сушилка?
— Нет, но у нас есть горячие батареи.
На это он лишь усмехается.
— Ну что, стираем? — жду его ответ.
— А в чем ходить прикажешь?
— Минуту!
Я иду в свою комнату, которая когда-то была нашей общей с Игорем. В шифоньере на верхних полках еще остались его вещи. Всё чистое, отглаженное, любовно сложенное мамой в аккуратные стопки. Приставив стул, достаю футболку. А джинсы беру его же, Смолина, те самые, что он дал мне после той ужасной вечеринки у Меркуловой. Есть еще его толстовка, но я в ней, если честно, хожу иногда, неудобно давать не постиранную.
Выношу ему одежду. Он так и стоит в коридоре, подпирая стенку. Следит за мной внимательным взглядом.
— Вот, можешь переодеться.
Он хмурится и вещи в руки не берет.
— Чей шмот? — спрашивает как-то вдруг недружелюбно.
— Джинсы, вообще-то, твои, а футболка — Игоря. Моего старшего брата.
— Оу! — сразу расслабляется он. — У тебя есть старший брат? А где он?
— Он погиб. Два с половиной года назад.
— Прости…
— Да я-то ничего. Маму вот жалко. Ее это сильно подкосило. Она очень Игоря любила… Тогда у нее и случился первый инсульт, — зачем-то рассказываю я. — Она долго восстанавливалась, но все равно до конца не восстановилась. Пришлось уйти с работы. Потом Платонов взял её в гимназию… уборщицей, а там… ну, ты и сам знаешь…
Смолин, который до этого смотрел на меня неотрывно, отводит глаза. Ему неловко? Или просто жаль меня? Не могу понять…
Помолчав, он спрашивает:
— А кем твоя мама работала раньше?
— Она у меня математик.
— А-а! Вот почему ты сечешь в математике! — сразу оживляется он.
— Ну да. А почему ты вдруг так захотел на олимпиаду? Ведь правда отказывался же. Почему передумал?
Но он на это лишь неопределенно пожимает плечами. И снова спрашивает:
— А отец твой… что с ним?
— Без понятия. Отец бросил нас сто лет назад. Я его в сознательном возрасте даже и не видела.
— Слушай, мне жаль…
— Да брось. На него мне вообще плевать. Ладно, давай раздевайся, не стесняйся, — уже чуть ли не силой сую ему в руки одежду.
Он, глядя на меня, усмехается:
— Раздевайся… не стесняйся… и это у тебя называется — ты ко мне не подкатываешь? Что ж будет, когда начнешь подкатывать?
Я не успеваю ему ответить, как он принимается раздеваться прямо тут же, при мне. И теперь уже стесняться начинаю я.
Рдея, заскакиваю в ванную. Суечусь вдруг. Достаю из шкафчика над раковиной чистое полотенце, перекись водорода, ватные диски. Смотрю, а этот красавец уже стоит в проеме двери и наблюдает за мной. Причем надел только джинсы, а торс остался голым. Невольно отмечаю про себя, что он, конечно, хорош. И сложен отлично, и наверняка качается, следит за своей формой, но мне ужасно неловко.
В ванной моментально становится слишком тесно, слишком душно, всего слишком. Щеки, чувствую, пылают. Глаза вообще не знаю, куда деть. Но усаживаю его на бортик ванной.
Не глядя на него, говорю:
— Давай лицом твоим сначала займемся. Обещаю, буду осторожной.
Смачиваю полотенце водой, встаю перед ним, между его коленей, и аккуратно промакиваю ссадины, бережно стираю кровь. Затем обрабатываю его раны перекисью. Только губ не касаюсь, хотя нижняя тоже разбита. Смолин мои манипуляции терпит молча, только иногда слегка морщится.
Наконец доходит очередь до губ. Я волнуюсь даже смотреть на них, а уж трогать… Но все-таки как-то перебарываю это волнение. Касаюсь сначала едва-едва. Смолин, чуть откинув голову назад, закрывает глаза. И вид у него такой блаженный, будто он кайфует. Даже забавно.
Но затем рука, дрогнув, нечаянно нажимает на ранку чуть сильнее. Смолин, поморщившись, коротко шипит, но глаза все равно не открывает. И я неожиданно для себя самой вдруг наклоняюсь к его лицу и тихонько дую.
Он тотчас распахивает глаза.
— Ну это уж лишне… — и замолкает на полуслове, глядя на меня сначала удивленно, а потом… потом его взгляд быстро меняется. Словно плавится и подергивается поволокой. Сползает к моим губам и залипает на них. Да так, что я физически его чувствую, почти как ожог.
Не отрывая взгляда, Смолин медленно поднимается и оказывается как-то слишком близко. От его обнаженной груди исходит такой жар, что у меня голова плывет.
Задыхаясь от волнения, я пячусь назад. Отступаю на шаг, другой, и он вдруг ловит мое запястье. Несильно, но уверенно тянет к себе. И смотрит, смотрит… словно затягивает в черный омут.
— Стас, не надо, — прошу я тихо. Поднимаю руку и кладу ладонь ему на грудь, пытаясь остановить. Но тотчас убираю, словно обжегшись.
— Чего не надо? — от его хриплого шепота шею и плечи мгновенно осыпает мурашками.
Я паникую. Сердце трепещет. Я к такому не готова. Такого со мной и не бывало прежде. Опускаю голову и, глядя в пол, говорю ему:
— Ничего не надо.
Взгляд его быстро трезвеет, а лицо застывает как каменное.
— Я ничего и не собирался… — говорит глухо.
Смолин огибает меня, стараясь не задеть, но это невозможно в нашей тесной ванной. Однако он не сразу выходит в коридор, а останавливается в проеме. Поднимает руку, согнутую в локте, и упирает ее в косяк. Уткнувшись в нее лбом, стоит так пару секунд. А я замечаю, что у него на спине сбоку расцветает громадный синяк.
Тяжело выдохнув, Смолин собирается выйти, но я его останавливаю.
— Погоди! Постой так еще немного. У тебя тут жуть просто… Я сейчас мазью от ушибов…
— Не надо ничего, — снова делает порыв уйти.
— Надо! — удерживаю его за вторую руку.
Он явно раздражен, но уступает.
Я достаю из шкафа тюбик с мазью, выдавливаю на пальцы гель и начинаю потихоньку втирать. Кожа очень горячая, как будто у него жар, а мышцы под ней напряжены. И дышит он тяжело, неровно.