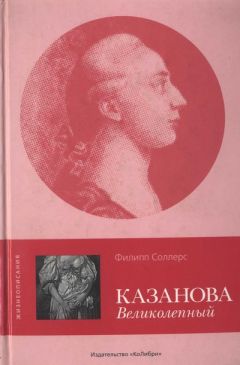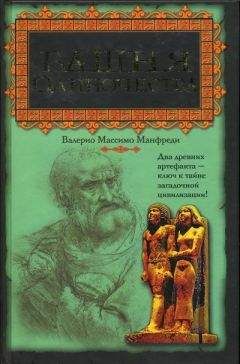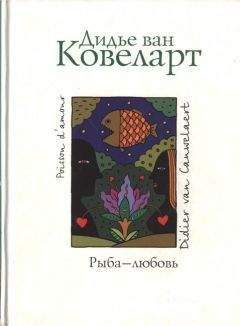Филипп Соллерс - Мания страсти
— Почему к югу?
— Солнце.
— Ну тогда ладно. А этот замок кому будет принадлежать потом?
— Никому. Ты забыла, что все это только слова. Ничего материального, в общем, или почти ничего. Никому, это значит каждому и каждой, всем понемногу.
— А как же авторские права?
— Ничего общего. Немного шума, немного дыма.
— А сам автор?
— Можно будет похоронить его где-нибудь в парке.
— Между строчками?
— Над строчками. Но тише, наступил вечер, все комнаты залиты светом, один за другим входят и рассаживаются музыканты. Темноволосая пианистка готовится играть. Разве это не то же самое, что было два века назад, разве не та же чайка над водой? Автор здесь, возле окна, чуть закрыт шторами. Запах лугов и деревьев заполняет гостиные и спальни. Над черными кедрами блестит луна. Служанка, миловидная филиппинка, очень жизнерадостная, поправляет корсаж, поднимаясь из погреба с корзиной бутылок. Пианистка глубоко вздыхает, словно погружаясь в собственные легкие, словно становясь своей спиной, шеей, плечами. Вот ее руки, они появились как-то сразу, ее пальцы. Неужели я сплю? Это она?
— Это она.
— Это она: Оливия, Виола, Розалинда, Мария, Марта, Марина, Корделия, Крессида, Хелена, Дездемона, Сесилия, Клеопатра, Клара…
— А еще я и ты. Везде только музыка?
— И ничего вне ее. Все остальное ложь.
— Огромная ложь?
— Вселенская. И пусть три ноты исчезнут. Вот.
Дора в другой раз:
— Забыла тебе сказать, день показался бы мне совершенно отвратительным, если бы я время от времени не думала о том, как обниму тебя вечером.
— Очень мило с твоей стороны.
— Нет, это правда так. Вокруг такая тоска. Я все время лгу, каждую минуту. Разумеется, как можно правдоподобнее, это лучший способ.
— Развлекаются одни только животные. Ну и некоторые человеческие особи. Например, мы.
— И еще цветы.
— Шекспир сказал, что у фей вместо букв — цветы.
— А где пролетали феи?
— Ты сама это знаешь. Они проследовали за богами в места их уединения.
— Уединения?
— Ну да, везде столько шума. Полное затмение.
Один великолепный стратегический автор, которого Франсуа обожал, не побоялся написать по-французски в конце двадцатого столетия:
«Я никогда никого не разыскивал специально, где бы то ни было. Мое окружение состоит из тех, кто пришел сам и сумел сделать так, чтобы его приняли. Я не знаю, осмелился ли хоть кто-нибудь в эту эпоху вести себя так же, как я».
Кто-нибудь один нет, но несколько, которые никогда друг с другом не были знакомы. Очень немногие.
Представим теперь, что я снова живу в маленькой комнатке в Нью-Йорке. Со своего девятнадцатого этажа я вижу Гудзон, сверкающий синевой, вижу там, в глубине, сквозь прорехи между зданиями. Я пишу вручную, поршневой ручкой, в серой тетрадке. Наблюдается ли в этот самый момент хоть где-нибудь во всем мире действие столь же ничтожное по своей значимости, столь же пустяшное, не стоящее ничьего внимания, разве что какого-нибудь вируса или бактерии? Гигантский город, со всех сторон ощетинившийся башнями и мостами, должен был бы раздавить меня, но, как ни странно, он удивительно прозрачен и невесом. Набережная Всемирного Финансового Центра, по которой я только что проходил, похожа на детскую игрушку-конструктор, стеклянные колонны, вертолеты, гудящие над широкой рекой, пришвартованные к берегу трепещущие яхты, над которыми, как правило, развивается английский флаг. Довольно низко тянутся, пролетая, утки. Чуть дальше, слева, в сумерках начинает отчаливать огромный паром Staten Island. Я совершенно потерян, всем на свете решительно наплевать на то, чем я сейчас занимаюсь, но я сомневаюсь, что в эту самую минуту хоть кто-нибудь на Манхеттене, или где-нибудь еще, более полно, более живо ощущает и это место, и это мгновение. Наиболее осмысленно это можно было бы выразить так: если Бог существует, он должен быть невообразимо маленьким, маленьким настолько, насколько велика стремительно расширяющаяся вселенная. Все меньше и меньше. Мегаполис, о тебе думает какой-то микроб. Гуманоид, тебя понимает какой-то электрон. Но истинное измерение удается отыскать не при помощи расчетов или посредством постоянно совершенствующейся техники. В соседней комнате зашевелилась Дора: она именно в этом измерении.
А, может быть, я нахожусь сейчас в другой комнате, в Венеции: пароход «Costa Victoria» из Монровии ровно в семь пятьдесят входит в Джудекку. Его белая громада, раздувшийся в тысячу раз кит, расплющивает город, но при этом бесшумно плывет и двигается вперед в лучах заката. Пруст, к примеру, никогда не смог бы представить себе эту плывущую громаду, завладевшую его городом мечты, и все это в двух шагах от баптистерия Святого Марка, от его матери, переводов Рескина, улочек, площадей, гондол. На борту парохода внучка Альбертины, она похожа на свою прабабку. Ее свежие округлые щечки вдыхают с высоты верхней палубы воздух Адриатики, над которым парит военная эскадрилья. Она здесь, очень сдержанная, невозмутимая, со своей подругой пианисткой, которая когда-то была очень дружна с внучкой мадемуазель Вентей. «Costa Victoria» настоящее чудовище. И что же? из-за этого Пруст устарел? Если принимать во внимание свидетельства фотоаппарата или кинокамеры, то да, несомненно, но вопрос так не стоит, потому что единственный бодрствующий пассажир на борту — это он. Я замечаю его стоящим наверху, на одном из мостиков. Он довольно непривлекателен с виду, со своим слишком бросающимся в глаза пристяжным воротничком, декоративной тростью, сомнительной чистоты брюками, со своими перчатками, шляпой, повисшими старомодными усами, бархатными глазами, как у какой-нибудь одалиски начала века. Вне всякого сомнения, его только что подвергли разморозке в трюме. Он слегка щурится, ему холодно, ему приносят теплую шаль, похоже, он преисполнен восторга, когда туристы всех национальностей щелкают фотоаппаратами. Если кто и выглядит на борту смешно и нелепо, так это он. Он смотрит, как по берегу перемещаются маленькие кусочки стен, выкрашенные желтой или розовой краской, и оживают этим прекрасным днем, который ничем не отличается от любого другого прекрасного дня. Что происходит? Да ничего. Пароход с сомнамбулами на борту входит в Венецию. Паром уплывает в нью-йоркские сумерки. Ротонда с лифтом в небоскребе на Западном Бродвее, где я сейчас нахожусь, переполнена нетерпеливыми людьми, движение очень интенсивно. Кто-то в Праге заказывает чай в кафе Кафки, кто-то другой — круассаны в кондитерской Джойса в Триесте. Жизнь прошла. Какая-нибудь старая карга, которая отнюдь не потеряла способности размышлять, вечером в Риме склоняет голову на плечо статуи Минервы. Сирано, вовсе не такой пустозвон, каким изобразил его Эдмон Ростан, делает несколько неуверенных шагов по острову Ситэ, в Париже, затем возвращается в свой особняк и библиотеку-лабораторию. Книги выглядят так, словно напечатаны только вчера.