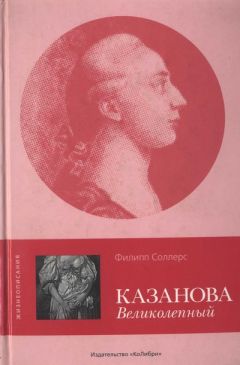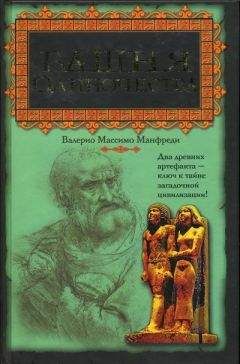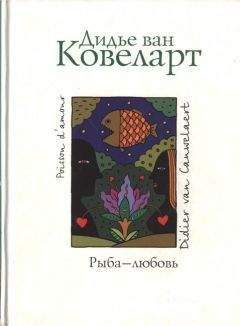Филипп Соллерс - Мания страсти
Госпожа Чан тоже здесь, сидит в глубине зала, ее занимает акустика, которая тут безукоризненна. Небольшой жест рукой… Клеопатра… Вернувшись в Париж, она, возможно, наведет справки у какой-нибудь подруги-синолога. Последние исследования о Чжуан-Цзы. Самые последние, изданы на Тайване. Об уравнивании и нейтрализации существ. В десять часов утра в номерах гостиницы… О «двойственном небытии»… «тень вне тени»… Похоже, это всерьез ее задевает, все это… В синем облаке…
Я ворочаюсь с боку на бок в постели, люблю эти весенние вечера. Я поднимаюсь в кафетерий, тосты, масло, клубничный джем. Типичный полдник беззаботного детства, послешкольные «четыре часа» (тартинки на белоснежной скатерти стола, там, когда-то, в деревне). Через два часа я закажу двойной виски, позвоню Доре в ее номер, пойду встретить ее после ванны, мы обнимемся, пойдем гулять по улицам… Она поведает мне о своих уловках, партии в покер. А я не расскажу ничего. Или, просто чтобы развлечь ее, поведаю о страхах госпожи Чан, что Чжуан-Цзы вернет ее на двадцать веков назад. Это напоминает мне маоистскую кампанию, когда-то в Китае, против Конфуция, «пожирателя женщин». Вся страна была оклеена афишками против «мэтра Кона». «Если ты больше не сюрреалист, ты умер», — говорил господин Ли на превосходном французском, одновременно восхищенный и раздраженный трафаретным стилем стандартных лозунгов. Но самым сюрреалистическим выглядел именно господин Ли, когда произносил «если ты больше не сюрреалист, ты умер». Франсуа, слушая эту историю, просто умирал со смеху. «Тебе следовало бы попросить его рассказать тебе последний сон. — Господина Ли? — Ну да. — Представь себе, он видел гигантскую черепаху, поедающую его мозг… — Мао собственной персоной? — Или крупного телосложения бородач, воздевающий руку в обвинениях в уклонизме… — Маркс? — Или усатый немец, требующий изучить его счета… — Энгельс? — Или маленький исступленный человечек с зоркими глазками, монголоидного типа, парализованный, в коляске, которую толкают два милиционера, переодетые санитарами… — Ленин? — Или человеческая масса, обрушившаяся на стол после удара ледорубом в голову… — Троцкий? — Или сигара, разросшаяся до размеров пушки… — Кастро? — Или Христос, стоящий перед толпой и дающий публичные уроки вскрытия… — Че Гевара? — Или еще один усатый воющий безумец, заставляющий целые толпы воздевать руки в исступлении… — Гитлер? — Или… — Ладно, ладно, хватит… — Прочесть тебе мою брошюрку? — О чем это? — Декларация управ на человека. — Ну, давай».
— Все люди, включая женщин, рождаются пленными и неравными, и право должно попытаться исправить это в той мере, в какой это возможно. Они являются пленниками узости своего мышления и своих верований, неравными в своих физических, умственных, сексуальных, эстетических возможностях, каковое обстоятельство усугубляется несправедливо распределяемым богатством, дутыми репутациями, добровольным заточением в невежестве. Им не приходится верить ни в какой потусторонний мир, ни в какого бога, ни в какое воздаяние, ни в какое будущее. Оставь надежду всяк сюда входящий. Ты, который вдыхаешь и читаешь эти строки, не забывай быть свободным, и ты свободен лишь потому, что можешь этой свободы лишиться.
— Неплохо, — сказал Франсуа. — Ты, наверное, замечал, что все эти старые китайские тексты, где все посвящено одному клише, используемому с незапамятных времен, о равенстве всех перед лицом смерти, коварстве имущих из века в век, так вот, все эти тексты весьма осторожны. Смерть — это отдых для Мудрого, — говорится в них, — и повиновение для других. Это же, в сущности, определение жизни. Ты ведь знаешь точку зрения, приписываемую Сюань-Цзану?
— Сюань-Цзан?
— Сюань-Цзан был, без сомнения, одним из тех, кто умел управлять не-действием. Как он это делал? Да просто садился лицом на юг, вот и все.
Давно уже наступила октябрьская ночь, чердак опустел, товарищи разошлись. Я вновь вижу, как Франсуа берет почти пустую бутылку вина и наполняет наши стаканы.
Теперь я отдыхаю. Еще очень рано.
— Представим себе, что ты собираешься писать литературное произведение, — говорит Дора. — Как ты его себе представляешь?
— Терпеть не могу это выражение «литературное произведение». Речь совсем о другом.
— Ну а все-таки.
— Ладно, думаю, оно будет постепенно разрастаться, как замок в стиле барокко. Сначала что-то вроде охотничьего домика, такой секретный уголок для молодежи, китайский павильон где-нибудь на отшибе. Затем начинаются земляные работы, рытье, возведение насыпи, закладка фундамента, водоемы, подземелья, туннели, лестницы, террасы, чтобы продемонстрировать, что фантазия и свобода воображения возникают не просто так, все это требует времени, упорства, строгости, пунктуальности, математических расчетов, здравого смысла. Вот тайники, рвы, редуты, оборонительные укрепления, которые в один прекрасный день все равно будут снесены, дозорные башни, посты наблюдений, тенистые аллеи, дворики. Сооружение растет, и теперь всем хотелось бы, чтобы этим все и ограничилось. Но нет, мы ведь еще не приступали к устройству интерьера: я, пожалуй, начну с плафонов, по крайней мере два из них я распишу с размахом, дав волю безудержной фантазии, пусть здесь царит буйство красок. В эту минуту у тех, кто посещает строительство, еще создается впечатление, что это будет какое-нибудь общедоступное место, гостиная для балов, музыкальный салон или музей, куда все будут иметь доступ согласно правилам гостеприимства и законам демократии. Подняв головы вверх, к этим хороводам обнаженных ангелочков, они будут убеждены, что все это делается исключительно для них. Сомнения начнут посещать их, когда на стенах появятся первые фрески: женщины, вакханалии, пейзажи, портреты, актеры и актрисы, порой даже узнаваемые, музыканты, танцовщицы, галантные празднества, словно сошедшие со старинных гравюр, звериная дерзость, уродства, преображения, легко прочитываемые исторические аллюзии, личные воспоминания. Появится некоторое разочарование, послышится какой-то недовольный шепоток. Так значит, это здание построено, чтобы в нем жить? И кто же там собирается жить? Автор? Тогда все не так просто, вот ведь картины на определенные сюжеты, современные, какие-то политико-экономические нравоучения, персонажи вполне узнаваемые, но, если так можно выразиться, обращенные на себя, к себе. Вот зажигаются люстры, скоро начнется концерт. Но ведь мы у себя, не так ли, со всеми современными удобствами, ванной, телефоном, факсом, радио, телевизором (радио настроено исключительно на музыкальные программы, а телевизор на всемирные новости). Автор почти весь день сидит в библиотеке, но она через потайную дверь сообщается с секретной лабораторией. А там нужно следить, чтобы не погасла печь, идет эксперимент алхимика. В начале третьего тысячелетия нашей эры? Нет, это совершенно невозможно. И тем не менее это так. Ночью он садится в машину, возвращается в город под другой личиной. Работа поглощает его почти целиком, но развлекается он также немало и с удовольствием. Иногда, в полдень, его видят на террасе, нависающей над водой, он сидит лицом к югу…