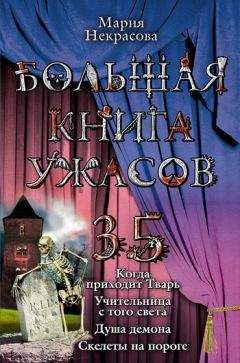Тщеславие - Лебедева Виктория
…Они не разговаривают друг с другом. Им незачем. Ведь в доме есть еще я, жена и дочь Надя, некий буфер обмена, через который они качают друг о друге любую информацию. А Юлька стала нервничать и постоянно просится на ручки, она уже не засыпает без долгого укачивания. Она постоянно похныкивает во сне. Мне приходится вскакивать по десять раз за ночь и бежать в детскую, откуда гонит меня наша заботливая бабушка Вера. Она привидением бродит по комнате — от окна к двери и обратно — в измятой ночной рубашке, с распущенными по плечам седыми волосами, с сонной Юлькой на руках, и вместо колыбельной шепчет ей в розовое ушко: «Да когда же ты заснешь, черт тя дери! Невыносимый ребенок! Господи-Господи, да за что мне это?!» А мне через плечо бросает: «Ну, чего пришла? Спала бы. А я уж тут как-нибудь… такая, видно, моя доля…» Как будто я могу спокойно заснуть под Юлькин плач! В результате у меня постоянно болит голова, у мамы постоянно болит голова и у Германа постоянно болит голова, мы все трое надоели друг другу до смерти и все трое хронически не высыпаемся, но мама — крепкий орешек, она и не думает сдавать свои позиции около Юльки, я виновата, ах как я перед ними виновата: перед мамой в том, что не слушаюсь, перед Германом в том, что не могу приструнить свою не в меру активную маму, а главное — перед Юлькой, она-то, бедная, за что мучается уже сейчас?
Ей же еще и года нет… Знаешь, Слава, как мне тяжело с ними? Не знаешь, слава Богу, и знать тебе не надо, ты привык быть счастливым, ты радоваться привык, и ты правильно сделал, что не связал свою жизнь со мной, я имею престранное свойство притягивать неприятности разных степеней тяжести, я сама виновата, я всегда виновата — во всем, перед собой и перед ними, и неизвестно, перед кем виноватее, перед ними или перед собой. Спасибо, Слава! Спасибо за то, что ты так часто мне снишься, ты говоришь со мной хотя бы во сне, а они… они никогда не говорят со мной, они только обвиняют, все их мысли поглотили военные действия, эта сладкая парочка — классический (даже анекдотический) вариант тещи и зятя, и если бы ты знал, Слава, как же они друг друга ненавидят! Как тебе повезло, Слава, что не пришлось тебе в жизни близко столкнуться с моей мамой. Нет, она не плохая, она — слишком активная. И Герман не плохой. Но он, напротив, чрезвычайно пассивен — несовместимые величины на одной территории, и знаешь, Слава, как я их боюсь?! Вчера мама спросила Германа, почему он не хочет есть суп, а он пробил ногой кухонную тумбочку для картошки, и у него было такое лицо, что я попрятала все самые большие ножи в темную комнату, под старые обувные коробки. Юлька перепугалась и целый час ревела белугой, и мама тоже ревела, даже громче Юльки, а потом ушла на улицу в одной кофточке и до ночи бродила вокруг дома под дождем, я за ней с плащом бегала, уговаривала вернуться, но плащ в результате оказался в луже, Юльке пришлось давать успокоительное, а Герман уехал к кому-то из родственников, я не знаю к кому, и не появлялся до следующего вечера, а когда вернулся, то был настолько пьян, что я его еле-еле до постели дотащила, он потом проспал чуть не сутки и весь ковер перепачкал… Мама ругалась, ох как она ругалась, вылавливая Герману на опохмел огурец, и ее пальцы были в маринаде, в мари…
— Надя! Надя? — Мама и Герман склонились надо мной оба, и лица их были встревоженными.
— Очнулась, слава Богу! — облегченно вздохнула мама и, ловко отвернув ворот футболки, подсунула мне градусник. А потом, предвосхищая мой вопрос, объяснила: — Врач сказал, что это грипп такой. А у тебя после родов организм ослаблен.
— И давно я так? — спросила я.
— Да нет. Это у тебя ночью началось, как заснула. Часа через два. Ты прости меня, доченька, это я виновата. Если б ты за мной по дождю не бегала, то и не простудилась бы, я…
— Мама, пожалуйста, не надо! — перебил ее Герман. — Иди к себе, я сам с ней посижу.
И мама (о чудо!) послушно вышла из комнаты. Что-то было неправильно в этой фразе. Но что? Мне послышалось? Или Герман действительно назвал тещу мамой? Быть того не может! От удивления я даже приподнялась на подушке.
— Лежи, лежи? — скомандовал Герман, опрокидывая меня обратно на кровать. — Врач велел не вставать дня три, а то осложнения будут!
Я повиновалась. А про себя подумала: «Да, ради этого стоило заболеть. Может, скандалить перестанут».
— Слушай, я и не знал, что ты такая тщеславная, — сказал мне Герман.
— Почему? — не поняла я.
— А ты, когда бредила, все время только и повторяла: слава, слава…
От этого заявления все у меня внутри похолодело. Я зажмурила глаза и сделала вид, что смертельно хочу спать. Пробормотала Герману:
— Ты иди, мне уже лучше… — И спиной к нему повернулась. Через мгновение услышала, как дверь за спиной хлопнула. «Вышел!» — подумала я с облегчением и действительно заснула.
Болела недели три с переменным успехом. Температура держалась по нескольку дней, потом падала, но через некоторое время поднималась снова, и меня общими усилиями загоняли в постель. Голова была точно ватой набита, причем не обычной стерильной, из воздушного хлопка, — это была плотная и очень-очень колючая стекловата, в детстве мы такую на стройке воровали с Максом, а потом у нас долго чесались руки, и получили мы от родителей отменнейший нагоняй.
А мама с Германом ничего, притихли, точно и не ссорились никогда. Он ей: «мама», она ему: «сыночек». Словом, полная идиллия. И все бы было хорошо, вот только Юльку мне показывали лишь на расстоянии, чтобы она, не дай Бог, не заразилась.
К началу декабря я оклемалась. Мне разрешили поиграть с Юлькой.
Я была в восторге. Юлька тоже. Возились мы, возились, дурачились, играли в «по кочкам, по кочкам…» и в «сороку-сороку». Она, оказывается, уже садиться пыталась сама. Забавно это у нее выходило. Сядет бочком, подопрет себя одной, рукой, чтобы не завалиться, а второй — игрушки перебирает и в рот тащит. По подбородку течет — зубы режутся, а Юлька сидит себе счастливая и довольная, и рот у нее до ушей. Еще бы, такую погремушку огромную почти целиком туда засунула!
Так и заснули мы с ней в обнимку, и погремушка с нами. И первый раз за много-много дней мне ничего не снилось.
«Жизнь налаживается!» — стала думать я, но, как всегда, рано обрадовалась.
Дома теперь все было тихо-мирно, зато у Германа на фирме начались неприятности. Что-то он там напортачил с годовым отчетом. В результате — налоговая полиция, все счета арестовали, зарплату перестали платить и к Новому году по такой статье уволили, что Германову трудовую книжку осталось, как говорится, только «выкрасить и выбросить». Герман слег на диван и на всю зиму оборотился в недвижимость.
Веселенький получился расклад: я — в декретном, мама — на пенсии, а Герман — на диване… И Юлька еще совсем кроха, ей витамины полагаются.
Сначала я думала, что Герман полежит-полежит да и пойдет себе работу искать. Но прошли рождественские праздники, и Татьянин день, и даже двадцать третье февраля, а он с дивана все не сходил. И глаза его были исполнены такой вселенской печали… Словом, неудобно его было беспокоить, коль скоро он находился в таком глубоком трауре. Мама какую-то заначку с книжки сняла, но заначка была не слишком-то велика, и питаться мы стали по-вегетариански: гречневой кашей и картошкой.
Я была в панике, а мама, как это ни парадоксально, только вздыхала. Восприняла происходящее спокойно и по-деловому. Она даже стала подбирать в подъезде пустые пивные бутылки, за что мне было крайне неловко.
Герман, по обыкновению, все время молчал, а мы с мамой решались разговаривать только шепотом, как будто в доме был тяжелобольной или даже умирающий.
— Мам, хочешь, я институт брошу, работать пойду? — время от времени спрашивала я.
— Да толку-то от твоей работы! — отмахивалась мама. — Вам же не платят по три месяца!