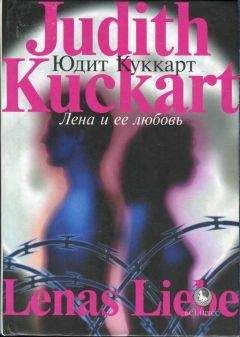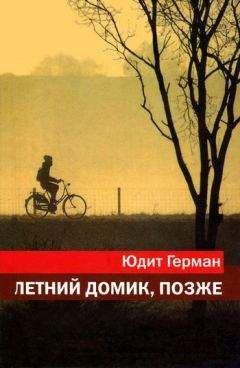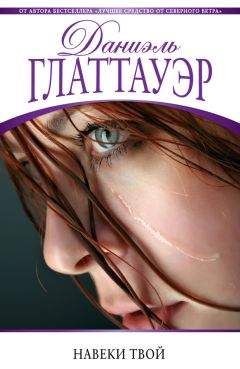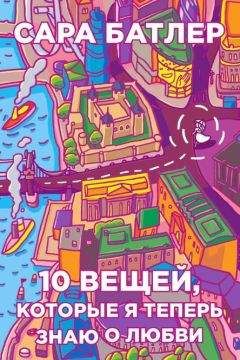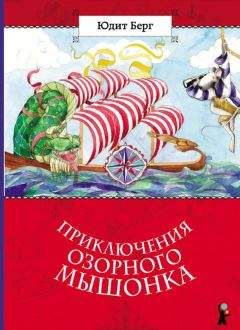Михаэль Крюгер - Виолончелистка
Тот, кто носит в себе столь взаимоисключающие тенденции, должен быть мастером по части перевоплощений. Возможно, эта девушка до сих пор так и не разобралась в своем характере. Или же передо мной решили представить все маски враз, чтобы я мог выбрать наиболее мне подходящую и признать ее раз и навсегда?
Я предпочитал помалкивать.
До сих пор я ощущал лишь одно чувство внутри себя — пустоту, приятную ласкающую тело пустоту, некое лишенное обстановки пространство, на котором можно было соорудить что угодно, дайте только время. Юдит своими многообразнейшими интересами, заботами обо всех и вся, своими склонностями и привязанностями сумела дать в известной степени верное представление о себе, и отныне у меня уже не оставалось сомнений, что передо мной тип женщины, агрессивно противопоставляющей себя любому, кто попытается претендовать на самостоятельность. Так и возникали смешения, накладки, неадекватные взрывы чувств, нередко весьма досадные.
Досадные в первую очередь для меня, но и для нее тоже.
Одним из ее многочисленных святилищ была кухня. И хотя, собственно, кухня принадлежала мне и была обустроена в соответствии с моими желаниями и предпочтениями, сформировавшимися за долгие годы, Юдит со свойственной ей стремительностью овладела и этим участком пространства. Ножи, испокон веку лежавшие справа в корзине, что куда удобнее при частом их употреблении, внезапно переместились налево, а ложки, которые предпочитала Юдит, занимали теперь отведенный ножам отсек. Подобная участь ожидала и чашки, и тарелки, и кастрюли. Даже моя любимая чашка, уникальная посудина, всегда стоявшая у плиты, стала жертвой принудительного перемещения — Юдит настырно добивалась от меня, чтобы мы с ней пили из одинаковых чашек, а поскольку в шкафу двух одинаковых не отыскалось, они были срочно приобретены.
Каждый вечер Юдит полчаса уделяла дневниковым записям. Дневник представлял собой маленькую бесформенную записную книжку с волнистыми от обилия разнообразных чернил страницами, которая не захлопывалась плотно, что придавало ей фривольно-откровенный вид. Впрочем, Юдит не было нужды соблюдать конспирацию — история ее полной страданий борьбы с эгоцентричным, неразговорчивым и своевольным композитором доверялась бумаге на венгерском языке. Напротив, нередко она специально бросала дневник на кухне раскрытым, дабы подстегнуть мое естественное любопытство.
Поскольку каждая его страница пестрела моим именем, не составляло труда догадаться, кто же все-таки служил Юдит источником вдохновения, и поскольку вербальные доказательства моего упрямства и своеволия часто приводились, так сказать, в подлиннике, то есть по-немецки, мои догадки подтверждались. Без сомнений, это была повесть обо мне. Но что же все-таки побудило ее с таким рвением фиксировать мое мнение о ней, Юдит, и об остальной части человечества? К чему потомкам знать, что я предал анафеме сам принцип сосуществования двух человеческих душ? Ежедневные записи служили Юдит молитвой, но к кому эта молитва была обращена? Она посвятила дневник моей особе, чтобы представить Марии доказательства моей несостоятельности как композитора?
Странно было сознавать, что в длинных и непонятных венгерских фразах отображены мои угрозы, страхи, насмешки, крохотные частички, из которых слагается тело того, кто горел желанием угробить и себя, и заодно весь мир. Ни единого доброго словечка по-немецки, которое свидетельствовало бы о человеческой адекватности, одни только угрозы, обвинения, оскорбления, выражения пренебрежения. И среди всей этой писанины мне вдруг попалось приписываемая мне фраза: «Если ты так поступишь, я тебя убью». Она была повторена в двух местах и наверняка сопровождалась комментариями Юдит.
Когда же я мог сказать подобное? Если судить по дате, в одно из воскресений, второе по счету из совместно проведенных нами. Неужели я и вправду так сказал? Я попытался припомнить то воскресенье, возникший между нами спор на тему музыки, из которого я предпочел выйти со словами «Тебе уже ничем не поможешь» — фраза эта была помещена на следующей странице. Но в какой связи я грозил ей убийством? После того злополучного спора я ушел из дома И отправился в город с намерением где-нибудь выпить. Вернулся ночью и, насколько помнится, тут же ушел к себе в кабинет и завалился на тахту, во всяком случае, на следующее утро я проснулся именно на тахте. Следующий день был отмечен именно этой цитатой, хотя я, убей Бог, вспомнить не могу, что, впрочем, вполне можно отнести на счет утреннего похмелья. Так что она все-таки задумала?
Черт бы побрал и ее саму, и ее окаянную писанину!
24
Я считаюсь музыкантом XX столетия; и если мне удастся дожить до XXI, что, в общем и целом, вполне осуществимо, в воспоминаниях обо мне и некрологах можно будет прочесть следующее: он был типичным представителем музыки последней трети XX века, который хоть и сознавал наличие новых тенденций, однако так и не сумел отдать им должное. Его воистину панический страх затронуть понятие ауры музыкального произведения и обусловил его двойную жизнь. С одной стороны, он — и это в первую очередь относится к его операм — достиг умеренного модернизма, с другой — зарабатывал себе на жизнь, запродав свой несомненно незаурядный талант телевизионщикам, для которых написал бесчисленное множество композиций, большинство из которых стали назойливыми хитами. Нет сомнения в том, что главным проектом его жизни был замысел написать оперу о Мандельштаме, посредством которой он всеми имеющимися средствами, вдохновенно и искренне попытался собрать воедино центробежные силы столетия, господствовавшие как в искусстве, так и в политике. Вопрос о том, удалось ли ему преодолеть разрыв, отделяющий намерение представить ход истории как социально-политическую необходимость и практические шаги по воплощению в действительность этого намерения, так и остается открытым. Однако нюрнбергская премьера оперы и последующие ее постановки в Варшаве, Москве и Будапеште могут считаться последними яркими моментами в истории умирающей оперной культуры. Подводя итог, можно утверждать, что музыкальная жизнь восточной части Европы притягивала его сильнее, нежели музыкальная жизнь западной. Последние годы можно обозначить как период творческого затишья. Композитор, живущий в отдаленной деревушке на юге Франции, был редким гостем в музыкальных метрополиях мира, хотя отдельные «фрагменты» его произведений всегда находили исполнителя. Тем большим шоком является факт, что несколько дней назад он повесился в своем домике во Франции.