Юдит Герман - Летний домик, позже
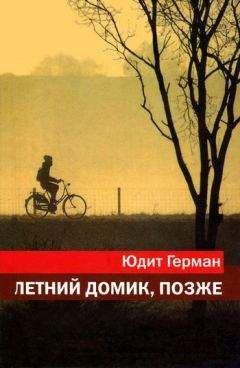
Обзор книги Юдит Герман - Летний домик, позже
Юдит Герман
Летний домик, позже
Посвящается Ф. М. и М. М.
The doctor says, I'll be alright
But I'm feelin blue.
Красные кораллы
Мой единственный визит к психотерапевту стоил мне красного кораллового браслета и моего возлюбленного.
Красный коралловый браслет был из России. Точнее, он был из Петербурга, ему было больше ста лет, моя прабабушка носила его на левой руке, он убил моего прадедушку. И эту историю я хочу рассказать? Я в этом не уверена.
Моя прабабушка была красавицей. Она приехала в Россию с моим прадедушкой, чтобы прадедушка строил печи для русского народа. Прадедушка занял большую квартиру на Васильевском острове в городе Петербурге. Васильевский остров омывается Большой и Малой Невой, и если встать на цыпочки и выглянуть из окна квартиры на Малом проспекте, можно увидеть реку и большую Кронштадтскую бухту. Но прабабушка не хотела видеть ни реку, ни Кронштадтскую бухту, ни высокие стройные здания Малого проспекта. Она не хотела видеть из окна чужбину. Она задергивала красные бархатные шторы, закрывала двери, ковры поглощали все звуки, и прабабушка сидела на диване, в креслах, на кровати с балдахином, покачиваясь взад и вперед, тоскуя по Германии. В этой большой квартире на Малом проспекте свет всегда был сумрачным, как на дне моря, и, может быть, моей прабабушке казалось, что чужая сторона, Петербург и вся Россия, — ни что иное, как глубокий непонятный сон, от которого она скоро очнется.
Тем временем мой прадедушка ездил по стране и строил печи для русского народа. Он строил шахтные печи, и слоевые топки, и пламенные печи, и печи Ливермора. Его подолгу не было дома. Он писал моей прабабушке письма, и когда они приходили, она немного приоткрывала тяжелые красные бархатные шторы, впускала в комнату узкую полоску дневного света и читала:
«Я хочу тебе объяснить, что печь Газенклевера, которую мы здесь строим, состоит из муфелей, соединенных друг с другом вертикальными каналами, и они нагреваются пламенем обжиговой печи — ты помнишь полую печь, которую я построил в Бломешенской пустоши в Гольштейне, она тебе тогда еще особенно понравилась — вот теперь и в печи Газенклевера руда будет через отверстия попадать в верхний муфель и…»
Мою прабабушку очень утомляло чтение этих писем. Она уже не могла вспомнить полую печь в Бломешенской пустоши, но она помнила Бломешенскую пустошь, равнины и пастбища, стога сена на полях и летом — вкус сладкого, холодного яблочного сусла. Она отпускала штору, и комната снова погружалась в сумерки. Она ложилась усталая на диван и повторяла: «Бломешенская пустошь, Бломешенская пустошь», это звучало, как детская песенка, как колыбельная, звучало красиво.
На Васильевском острове в те годы рядом с иностранными предпринимателями и их семьями жило много русских ученых и художников. Они прослышали о красивой, бледной немке со светлыми волосами, которая жила в конце Малого проспекта, и почти всегда была одна в комнатах, таких же темных, мягких и прохладных, как Балтийское море. Ей представили ученых и художников. Прабабушка приглашала их войти усталым жестом своей маленькой руки, говорила мало, ничего не понимала, смотрела сквозь полуприкрытые веки медленными сонными глазами. Ученые и художники садились, глубоко утопая в мягких креслах и диванах, горничные приносили черный чай с корицей и варенье из черники и ежевики. Моя прабабушка грела руки на самоваре и чувствовала себя слишком усталой, чтобы выпроводить ученых и художников. И они сидели. Они не сводили с моей прабабушки глаз и замечали, как она сливается с сумеречным светом во что-то печальное, красивое, странное. А так как печаль, красота и странность — главные черты русской души, ученые и художники были влюблены в мою прабабушку, а моя прабабушка позволяла им себя любить.
Итак: прадедушки не было очень долго. Прабабушка очень долго позволяла себя любить, она вела себя крайне осторожно, была осмотрительной и вряд ли допускала ошибки. Она грела руки на самоваре, а свою промерзлую душу — на пламенных сердцах своих любовников, она научилась различать в чужом мягком языке слова: «Ты нежнее всех березок». Она читала письма о плавильных печах и о трубчатых печах в узкой полоске света, после чего сжигала их в камине. Она позволяла себя любить, по вечерам, перед тем, как уснуть, она тихонько напевала песенку Бломешенской пустоши, а когда ее любовники вопросительно смотрели на нее, улыбалась и молчала.
Прадедушка обещал вскоре приехать и вернуться с ней в Германию. Но он не приезжал.
Прошла первая и вторая и третья петербургская зима, а мой прадедушка все еще занимался строительством печей где-то на российских просторах, а моя прабабушка все еще ждала, когда она вернется домой в Германию. Она писала ему в тайгу. Он писал ей в ответ, что скоро приедет, вот только построит еще одну печь. Он каждый раз писал, что это — последний раз, и после этого они уже точно уедут домой.
Вечером того дня, когда вернулся мой прадедушка, моя прабабушка сидела перед зеркалом в спальне и расчесывала свои светлые волосы. В ящичке перед зеркалом лежали подарки ее любовников: брошь от Григория, кольцо от Никиты, жемчуга от Алексея, кудри Емельяна, медальоны, амулеты и диадема от Михаила и от Ильи. В ящичке также лежал коралловый браслет от Николая Сергеевича. Шестьсот семьдесят четыре маленьких коралла были нанизаны на шелковую нить, и гневно светились красным светом. Прабабушка положила гребень на колени. Медленно закрыла глаза. Открыв глаза, она достала из ящичка коралловый браслет и надела его на левую руку. У нее была очень белая кожа.
В тот вечер она ужинала с моим прадедушкой впервые за три года. Прадедушка болтал по-русски и смеялся. Прабабушка складывала руки на коленях и тоже смеялась. Прадедушка говорил о степях, о пустынях, о светлых русских ночах и о печах, он произносил много названий, и моя прабабушка кивала, как будто она все это понимала. Прадедушка сказал ей по-русски, что он должен еще раз поехать во Владивосток, говоря это, он ел руками пельмени. Он вытер ладонью масленый рот и сказал, что это будет последний раз и после этого они вернутся в Германию. Или она хочет остаться еще?
Моя прабабушка не все поняла. Но она поняла слово «Владивосток». Она положила руки на стол, и коралловый браслет на ее белоснежной руке разгневанно засветился красным светом.
Прадедушка уставился на браслет. Он вытер руки льняной салфеткой и приказал горничной покинуть комнату. «Что это?» — сказал он по-немецки.
Прабабушка сказала: «Браслет».
Прадедушка сказал: «Можно мне поинтересоваться, откуда он у тебя?»
Прабабушка очень тихо и мягко сказала: «Я вообще-то ждала, когда ты спросишь. Это — подарок Николая Сергеевича».
Прадедушка позвал горничную и послал ее за своим другом Исааком Бару. Исаак Бару пришел, кривой, горбатый, он выглядел заспанным и растерянным, была уже поздняя ночь, он то и дело пытался пригладить рукой всклокоченные волосы. Прадедушка стал быстро ходить по комнате, Исаак Бару бегал за ним, они спорили, Исаак Бару напрасно пытался успокоить прадедушку, слова, которые он произносил, напоминали прадедушке о любовнике. Моя прабабушка чувствовала себя опустошенной, утопала в мягком кресле и грела руки на самоваре. Мой прадедушка и Исаак Бару говорили по-русски, прабабушка уловила только слова «секундант» и «Петровский парк». Горничную послали с письмом в темноту. Как только рассвело, прадедушка и Исаак Бару покинули дом. Прабабушка заснула в мягком кресле, ее маленькая рука с красным коралловым браслетом безжизненно свисала с подлокотника; в комнате было темно и тихо, как на дне морском.
Исаак Бару пришел в полдень и после множества расшаркиваний и выражений соболезнования сообщил прабабушке, что в восемь часов утра скончался прадедушка. На холме в Петровском парке пуля Николая Сергеевича попала ему в сердце. Прабабушка ждала семь месяцев. 20 января 1905 года, в первые дни революции, она родила мою бабушку, упаковала вещи и вернулась в Германию. Поезд был последним: после этого железнодорожники объявили забастовку, и сообщение между Россией и заграницей было прервано. Когда закрылись двери, и локомотив выпустил в зимний воздух белый дымок, в конце перрона появилась кривая фигурка Исаака Бару. Прабабушка заметила его, приказала проводнику подождать, и Исаак Бару в последнюю секунду вскочил в немецкий поезд. Он сопровождал прабабушку до самого Берлина, он носил ее чемоданы и коробки со шляпами и всю ручную кладь, и не проходило минуты, чтобы он не заверял прабабушку, что будет благодарен ей всю жизнь. Прабабушка молча улыбалась ему в ответ, на левой руке у нее был красный коралловый браслет, и моя маленькая бабушка, лежавшая в ивовой корзинке, уже тогда намного больше походила на Николая Сергеевича, чем на моего прадедушку.




