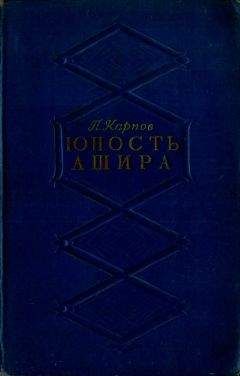Неверный муж моей подруги (СИ) - Хаан Ашира
Иззубренным ногтем безымянного пальца я нервно царапала тонкую кожу запястья, раз за разом выводя на ней букву N.
Nevermore.
Больше никогда.
Хотелось вывернуться наизнанку, чтобы вся та боль, что скопилась внутри, вылилась из меня, вывалилась неопрятными черными кусками гнилой плоти. Чтобы можно было промыть внутренности струей душа, протереть антисептиком и не оставить ни единой молекулы себя прежней.
Стать свободной.
Как давно, давно, давно я не ощущала отвращение к себе.
Тонкая кожа на запястье соблазняла своей уязвимостью.
— Извините, — наклонилась я к таксисту. — Вы можете изменить маршрут? Я передумала.
— Куда поедем? — спросил он со вздохом, притормаживая у обочины.
— Минутку, сейчас загуглю адрес.
Сейчас. Никогда?
Пятый день без Германа.
Моя любовь жжется в груди черным угольком.
Тайна и боль — словно я прячу раковую опухоль, которая однажды меня убьет.
Может быть, это даже не метафора. Не представляю, как жить с этой тайной всю оставшуюся жизнь. Как окружать ее слоями соединительной ткани, выращивать перламутровую оболочку, как моллюски обволакивают инородные тела, попавшие к ним в раковину, превращая их в жемчужины.
Внутри моей жемчужины, запертой в моем теле, будет гореть этот жгучий огонек. Или так — или он сожжет меня изнутри до черного пепла и пустоты.
Пятый день без Германа.
Удален чат ВКонтакте, стерт номер из телефона, нет повода проехать мимо его офиса.
Я как-то живу, готовлю по утрам завтраки детям и мужу, обнимаю Игоря на прощание, улыбаюсь Тине, хожу обедать с девчонками.
Один раз даже написала Полине, чтобы узнать, как там Маруська.
«Уже все в порядке. Просто перепугала нас, зараза. Сидит дома, лечит лапу».
Все в порядке. С Марусей все в порядке, а про Германа она не станет рассказывать в мессенджере, это слишком больное и мягкое.
У меня ничего нет.
Кроме затейливой татуировки на запястье.
Nevermore.
И шрам рядом.
Как обещание, как напоминание никогда не сдаваться.
Как путеводный огонь, который обещает, что где-то есть твой настоящий дом. Теплый свет окна в зимнем лесу.
И что бы ни происходило — он все равно есть.
Потому что это — настоящее.
Я помню ту ночь, когда я мчалась на такси в первый попавшийся тату-салон, работающий в такой час. Странную комнату с кафельной плиткой на стенах, жужжащие лампы дневного света, лысого молчаливого мастера в виниловом фартуке поверх белого халата.
Мне казалось — я в морге. Я уже умерла — а то, что мне рисуют на запястье, это такой причудливый способ инвентаризации трупов. Надо набить инвентарный номер. Или название того круга ада, куда отправилась моя душа.
Но как ни странно, с каждой каплей чернил, проникавших в мою кожу, я чувствовала себя все лучше. Уверенней. Буква за буквой, навсегда остающиеся у меня на запястье, словно привязывали меня к Герману крепкими канатами. Вопреки смыслу этого слова, я все глубже понимала — мы с ним вместе навсегда.
Он все равно будет моим. А я — его.
Он может быть сейчас где угодно и с кем угодно, но он судьбой предназначен именно мне.
Я знаю это точно, я уже жду его в той теплой избушке в центре метели. А он все еще в пути.
Но ничего — я подожду. Поставлю чайник, испеку пирог, согрею постель.
И я ждала.
Наша связь ощущалась настолько ярко, что как только мастер поставил последнюю точку, я успокоилась. И принялась ждать. Неделю, пока заживет татуировка, еще неделю, пока она примет нормальный вид.
Я тогда старалась не думать о его жестоких словах и причине, по которой он их сказал.
Теперь я знаю, почему он был так жесток.
Однажды мы лежали в постели в одной из гостиниц, куда приехали в командировку. Кажется, это был Ярославль. Или Нижний Новгород? А, может, Ростов?
Не помню. Помню только, что луна светила в щель занавесок так ярко, что я приняла ее за фонарь. Встала, чтобы задернуть их, обернулась — и увидела, что Герман тоже не спит.
Он смотрел на меня лежа, закинув руки за голову, его черные глаза были провалами в беззвездный космос.
— Прости меня, — сказал он вдруг.
Не помню, почему тот момент был для меня таким чувствительным, но я даже схватилась за сердце, почувствовав ледяной сквозняк, пронесшийся сквозь дыру в нем, пробитую любовью к Герману.
— За что? — спросила я, холодея.
— За то, что сказал тогда, что это была моя слабость. И провал. Я только много дней спустя понял, как это прозвучало. Тогда. В наш первый…
— Я поняла! — прервала я его, испугавшись невесть чего. Того, что он опять скажет что-то, что прозвучит, как будто он…
— Как будто я жалею о том, что было между нами. О тебе.
Я так и стояла, опустив руки и так и не задернув штору.
Голая — и меня это вдруг смутило, хотя я давно уже не смущалась своей наготы рядом с ним.
Я дернула со спинки стула гостиничный халат Германа, но он качнул головой и откинул одеяло:
— Иди сюда.
Оставив халат в покое, я скользнула к нему, обвиваясь вокруг горячего тела, устроила голову у него на груди и медленно, прерывисто выдохнула, как после долгих рыданий.
Что бы он ни сказал — он сейчас у меня есть.
До утра.
Хотя бы до утра.
— Но я не жалел. Меня выкручивало от боли, от своей слабости — я не смог сделать так, как считал правильно. Я был мужчиной, который должен был защищать свою женщину. Но ни одну из женщин, которых мог бы посчитать своими, я не уберег от своей ошибки. Знаешь, когда тебе больно, иногда забываешь, что другие люди тоже могут испытывать боль. Твоя все перекрывает.
Я покачала головой:-
— Ты просто никогда не был матерью. Мать всегда ощущает боль ребенка сильнее, чем свою.
— Что ж, отец я тоже поганый.
— Перестань.
— Никогда не врал себе и не собираюсь начинать.
— Никогда?
Я провела пальцами по татуировке. Герман молча притянул мое запястье к себе и оставил на ней жгуче-нежный поцелуй. Один из миллиона поцелуев, которые она запомнила за эти полгода.
Полгода нашего счастья.
Если бы в тот страшный день, когда я ехала на такси по ледяному городу, и мое запястье еще было девственно чисто, я знала, что будет дальше…
Я бы погладила себя по голове и попросила бы не рвать так сердце.
Все еще будет, ты совершенно права, что не чувствуешь, что это финал.
Будет еще много сладких и грешных дней, наполненных огнем и страстью.
Будут еще украденные у судьбы часы близости.
Минуты покоя, когда голова Германа будет лежать у меня на коленях, а я перебирать его волосы и чувствовать, что наконец-то нашла свой настоящий дом.
Мы будем сбегать от всех далеко-далеко и там притворяться, что мы — самые обычные супруги, давно женатые, привыкшие друг к другу настолько, что можем смотреть сериалы в разных комнатах или проводить целые часы порознь.
Без надрыва, без ощущения последних мгновений вместе, без желания надышаться напоследок.
Какая я была счастливая в ту ночь… Если бы я знала, какая я была счастливая — тогда.
***
Это и было самым ценным для нас.
То, что мы могли вести себя так, будто у нас есть все время мира.
Будто нас не ждут супруги и дети, быт наших отдельных друг от друга жизней.
Будто мы будем жить долго и счастливо — и умрем в один день в глубокой старости, успев надоесть друг другу.
Чем-то это походило на игры в магазин в глубоком детстве, когда мы притворялись, что березовые листочки это деньги, ветки — колбаса, а песочные куличики — торты. И они были намного вкуснее настоящих, я помню. Я постоянно приходила домой, наевшись песка. Золотистого, красивого, рассыпчатого песка. Пока я играла — у него был бисквитный вкус. А дома меня заставляли полоскать рот противным раствором марганцовки и ругали.