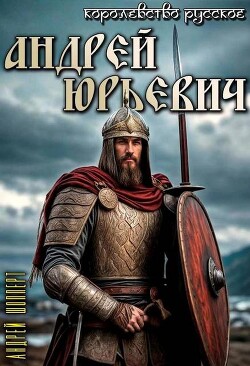Город из воды и песка (ЛП) - Дивайн Мелина
— Лучшая книга, написанная о войне, — антивоенная книга, — сказал Саша.
— Лучшая картина, написанная о войне, — антивоенная картина, — согласился с ним Войнов.
— В войне не бывает выигравших, — согласился Вольф.
Потом они какое-то время рассматривали ещё две большие картины из Туркестанской серии. На одной к султану прямо под ноги выкатывается одна из кучи поднесённых ему в дар голов. А он стоит в ярких чалме и халате, рассматривая трофеи. На другой была красивая мечеть, которую хотелось рассматривать, а перед ней площадь. А на площади тоже на пиках — головы. Вольф даже не сразу их заметил, сказал сначала — какая мечеть красивая, как детально написана. Не тут-то было.
— Почему везде головы? — спросил Вольф.
— Две головы — хорошо, а пятьдесят лучше. Можно какой-нибудь подарок посложнее халата получить от султана, — объяснил Саша.
— Туркестан — где это?
— Средняя Азия, — пояснил Войнов.
— Но не Аравийский полуостров, — продолжал соображать Вольф.
— Между Ираном, Афганистаном и Казахстаном, — пришёл на помощь Саша. — Я сейчас пришлю ссылку на карту.
— Жестокий ваш художник, — хмыкнул Вольф.
— Явно не добрый, — согласился Войнов. — За то и был бит и порицаем.
— Не хотели ему верить, — продолжил Саша. — Как будто так не бывает. Слишком сгущает краски. Позорит отчизну.
В следующих залах уже было не так тревожно. Всё ещё варвары, но уже не такие и не те: в головных уборах и военных рубахах. Яркие, но всё куда проще — разные образы, разные этносы, в полной боевой выкладке: кто с луком и колчаном, кто с саблей, кто с пикой. Ещё висели просто портреты: киргизов, дервишей, афганцев, узбеков, бухарцев, индусов, факиров, сикхов, браминов, буддийских монахов. Все были непередаваемо яркие — так что не хотелось даже переводить взгляд с одного лица на другое. А буйство красок было таким, что даже не вполне верилось, что там, на Востоке, взаправду может быть так — непередаваемо сочно и солнечно.
— Какое красивое лицо у девушки, — сказал Вольф, остановившись у портрета бачи.
— Это мальчик, — пояснил Войнов. — Бачи в Средней Азии — мальчики для удовольствий. Женщины — для детей, мальчики — для удовольствий. *
— Господи, какой ужас, — выдохнул Вольф. — А там же вот мальчик ещё на картине был, которого покупают старики, — вспомнил он. — Совсем маленький. Ещё по-детски пухленький. Это тоже — для этого? — не вполне поверил он.
Войнову оставалось только кивнуть.
— Ваш художник просто ужасен, — повторил Вольф.
— Не нравится? — спросил Саша.
— В том-то и дело, что нравится… Пойдём дальше. Но всё равно — ужасен…
— Ну тут я согласен.
Дальше шли по большей части пейзажи: горы, ущелья, мечети, храмы, развалины, буддийские ступы. Небо на картинах было такой синевы и прозрачности, что казалось даже в жизни подобное невозможно. Отовсюду лилось жаркое ясное солнце, и Саша попросил Войнова на некоторое время задержаться у упирающихся в синюю гладь белоснежных пиков, потом у навьюченного посредине караван-сарая верблюда и ещё у мраморной набережной в Раджнагаре.
— Это безумно красиво, — сказал Саша по-русски. — Никогда не видел такого ослепительного солнца.
— Тогда нам надо ехать в Индию, — сказал Войнов. — И в Самарканд.
— О чём вы говорите? — не выдержал Вольф.
— Обсуждаем поездку в Индию, — пояснил уже по-английски Войнов.
— Ничего себе вы быстрые.
— Верещагин говорил, — добавил Саша тоже по-английски, — что, если бы не было войн, он бы писал одно только солнце.
Они недолго задержались на Русской и Палестинской сериях. Вольфу, конечно, понравилось Русская — с теремами, иконами, папертями, массивными балясинами и лучами света в горнице, на что Саша заметил скептически:
— Никита, пожалуй, выбрал для тебя самого «не русского» из всех русских художников.
Дальше была серия 1812-го с замерзающей в снегах наполеоновской армией и расстрелом в Москве поджигателей, и Балканская — тоже снежная, с Шипкой, погибающими в метели часовыми, со Скобелевым на коне, торжествующим победу, вверх летят шапки и со всех стороны несётся стройное «ура!», а на переднем плане, крупно всё те же: сереющие на нечистом окроплённом снегу шинельки, винтовки, мундиры со вздёрнутыми вверх окоченевшими руками — припорошенные снежком солдатики.
Уже под конец задержались перед обязательной «Панихидой». Пытались рассмотреть (зачем-то) чуть не каждого павшего в белой (если повезёт, если досталась и если осталось что в неё облачить) нательной рубахе на бескрайнем, уходящем за горизонт под низкими тяжёлыми тучами сухостойном желтеющем поле: тела, руки, головы, наспех присыпанные землёй, а дальше только темнеющие пятна волос и потом, насколько хватит глаз — уже только степь, поле, поле, поле…
Удивительно, что и на триптих про казни (который, к сожалению, остался диптихом) хватило внимания и сил. Обыденно и серо на первой: едва различимые сквозь снег и пургу, а оттого, может, и не такие страшные виселицы для народовольцев. А вот что интереснее и точно страшнее — толпа: наблюдающая, ждущая. На второй, у распятых римлянами — тоже толпа, только уже больше сочувствующая, оттеснённые стражей еврейские старцы и плачущие женщины.
— Должно было быть три картины, — снова возник Сашин голос. — Но осталось две. Третья, «Подавление индийского восстания англичанами» или попросту «Казнь сипаев», вероятно, уничтожена.
— Тоже Верещагиным? — на этот раз уточнил Войнов.
— Нет. Думают, что англичанами. Нам не понравилась казнь декабристов, англичанам, ясное дело, казнь сипаев дьявольским ветром.
— Дьявольский ветер? — переспросил Вольф.
— Берут пушку, привязывают к жерлу человека, стреляют. Тело разлетается на куски, голова всегда спирально идёт вверх. Это не моё описание, если что. Самого Верещагина.
— То есть он видел? — уточнил Вольф.
— Он участвовал во всех походах и военных операциях, которые потом изображал. И в Индии одно время тоже жил. Это политика. Нам в то время с англичанами не полагалось ссориться.
— Потрясающе, — сказал Вольф. — Я, кажется, совсем обалдел от вашего Верещагина.
Саша рассмеялся.
— Саш, фотка этой третьей картины осталась? — спросил Войнов.
— Да, осталась. Я, знаешь, ещё когда-то давно читал что-то, и там было про дьявольский ветер — я пошёл гуглить и первым делом наткнулся на эту картину. Она жуткая, правда. Покруче остальных двух из серии. Там фишка знаешь ещё в чём? Если бунтовщики попадались из разных каст — а это было неминуемо, — то останки высокородного как нефиг делать могли смешаться с останками парии. Индусы этого дико боялись. Не отмоешься ведь потом.
— Пришлёшь фотку? — попросил Войнов.
— Пришлю, если хочешь. Погоди тогда…
И буквально через несколько секунд:
— Сань, ты там гуглишь?
— Угу. Ты же сам просил.
— Можно ещё вопрос?
— Валяй.
— Ты откуда всё это знаешь? Ну вот это вот вообще всё. Про картины, про Верещагина. Был здесь с экскурсией?
— Я просто много читаю, — отозвался Саша. — Я думал, ты уже в курсе. Был период, когда из всех развлечений у меня был только планшет, ну и книжки частично. Вот я смотрел и слушал днями и ночами напролёт.
— А я думал, вы сговорились, — послышался голос Вольфа.
— Нет! — в один голос ответили Войнов и Саша.
— Я почитал кое-чего, — признался Войнов. — Не мог же я тебя так вести, совсем без подготовки. Но так, по верхам чисто. Совсем не как Саня.
— Теперь я буду думать, что русские все такие, — сказал Вольф.
— Тебя ожидает большущий облом, — предупредил Саша, рассмеявшись.
— Он лучший, — изобразил Войнов только для Вольфа, одними губами, и поднял вверх большой палец.
Закончили, как и должны были, Японской серией. Наконец после всего военно-зловещего — подобие покоя, как будто гармонии. Японки, храмы, зонтики, лодочки — крупными и смелыми, похожими на импрессионистские, мазками.
— Япония стала его последней темой, — пояснил Войнов. — Верещагин подорвался на мине на броненосце «Петропавловск» в тысяча девятьсот четвёртом.