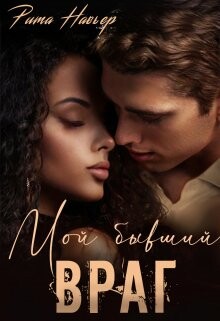Подонок. Я тебе объявляю войну! (СИ) - Шолохова Елена
— Что за бред?
— В шутку, конечно! В смысле, не по-настоящему.
— Сонь, не гони.
— Да нет, ты послушай, это же отличная идея! Поездишь ей по ушам, замутишь с ней, а там можно и не только фотки раздобыть, а…
— Соня, угомонись. Даже ради тебя я не стану с ней мутить. Не сходи с ума.
— Стас, ну ты подумай… это же реальный вариант, как ее унять и как опозорить…
— Иди домой, — прошу ее.
Она целует меня в висок и уходит.
Лучше бы она вообще не заикалась про Гордееву. И так невмоготу. Я даже не могу нормально обозначить, что это. Внутри, где-то за грудиной саднит, тянет. И теперь еще больше.
В какой-то момент меня вырубает. А потом вдруг слышу рядом с собой шорох. Разлепляю отяжелевшие веки и… глазам не верю. Брежу, что ли?
Нет. Действительно, она, Гордеева, склонившись, в полутьме возится надо мной. Поправляет одеяло. Трогает за ногу. От ее легкого касания у меня дыхание перехватывает и внутри сладко сжимается. Сейчас даже не думаю, насколько адекватна моя реакция. Думаю только о том, что не хочу, чтобы она убирала руку. Но она убирает, выпрямляется и поднимает глаза. А мне аж за рукой ее следом тянуться хочется.
Может, это препараты, которыми меня пичкают, так расплавили мне мозг. Может, сама ситуация наложилась. Еще и полумрак. А в полумраке она выглядит совсем другой, какой-то открытой, мягкой, нежной. Но вот она стоит рядом, и меня ведет. Прямо чувствую, как поплыл.
Она что-то говорит, а мне на ум приходит: «Какое счастье, что я сегодня отказался от катетера. Если бы она сейчас увидела тот сраный мешок, я бы точно умер».
Я не думаю о том, что ей ответить, я просто ее слушаю, как в гипнозе.
А потом она говорит:
— …мне жаль, что мой Дэн так тебя избил…
И меня будто резко выдергивает из теплого сна в ледяную реальность. Дурман рассыпается мелким, сухим крошевом. Вот зачем она притащилась. За этого утырка просить. Ради него даже унизиться смогла.
Гоню ее прочь. Она, дура, еще и не уходит. А я чувствую, сейчас меня понесет, да так, что мало ей не будет.
Наконец выметается из палаты. Наконец остаюсь один. А за грудиной, где саднило, печет так, будто у меня там раскаленные угли ворочают. Ненавижу ее…
37. Женя
Не включая свет, захожу на цыпочках в большую комнату. Забыла вчера здесь учебник по алгебре. И теперь, чтобы не разбудить маму, тихонько шарю по столу, ищу его.
Однако мама, оказывается, уже не спит.
— Жэ-а, — окликает меня.
Я вздрагиваю от неожиданности. Потом подхожу к ней.
— Мам, ты чего не спишь? Шесть утра всего. Спи.
Поправляю ей постель, помогаю лечь поудобнее, целую в щеку и выхожу.
Неделю назад я забрала маму из больницы. Выписали ее, по словам врача, с положительной динамикой. Но я так и не поняла, в чем эта динамика заключается. Мама по-прежнему почти не говорит, не встает с кровати, разве что приподнимается, ну, максимум — с большим усилием может сесть. Вот и всё. Правая рука у нее так и висит плетью. Правда, мама давно научилась управляться левой рукой. Но все равно без присмотра оставить её нельзя.
Хорошо хоть соседка, тетя Неля, мать Дэна, вызвалась за ней приглядывать, пока меня нет. По-хорошему надо бы ей платить, хоть немножко, у нас еще что-то осталось от тех денег, которые мама откладывала, пока работала в гимназии. Но тетя Неля отказывается. Возмущается даже: «С ума сошла, Женька! Свои же!».
На этой почве мы и с Дэном стали опять потихоньку общаться. А то ведь всё это время, точнее, после того, как он избил Смолина, меня прямо с души воротило. Смотреть на него не могла спокойно.
И я даже не могу сказать, что меня больше отвратило: та его внезапная звериная жестокость, то, как Дэн потом отчаянно трусил, что его найдут и накажут, или то, как он самодовольно посмеивался, когда я передала ему слова Смолина, что тот никому его не сдаст.
«Ха! Зас*ал мажорчик. Понял, что с нами связываться не стоит», — выдал тогда Дэн самоуверенно.
Меня так и тянуло напомнить ему, как он сам изводился от страха, но махнула рукой. А то снова началось бы: ты что, за него? За этого мажора? Ты его защищаешь? Что у вас с ним?
Но общение наше свела к нулю. А вот сейчас волей-неволей мы опять сближаемся.
Дэн помог привезти маму из больницы, занес ее на руках в дом. Соорудил и приладил к стене возле ее дивана что-то вроде рукояти, за которую мама держится и приподнимается. И тетю Нелю он как-то раз подменял.
Ну а про Смолина мы больше не говорим.
Впрочем, я ничего про него и не знаю. С того дня, как Смолин выгнал меня из палаты, я о нем ни у кого не спрашивала. Да мне бы никто и не ответил.
В классе меня игнорируют. Точнее, во всей гимназии. Разговаривают со мной только преподаватели и персонал. А ученики, даже из других классов, в упор не замечают.
Буквально вчера после уроков пришла на стоянку — автобуса нет, хотя по времени как раз должен быть. По близости стояли девочки-семиклассницы. Спросила у них, не видели ли они автобус, так те шарахнулись от меня, как от прокаженной, ни слова не говоря. Ну а самые маленькие из этого даже игру себе придумали. Когда завидят меня издали, разбегаются в стороны с криками «А-а-а! Швабра идет! Прячемся!».
В моем классе такой ерундой, конечно, не страдают. Они просто меня «не видят». Даже Соня Смолина.
Ее тоже долго не было, только позавчера начала ходить на занятия. Я думала, уж она-то не удержится от оскорблений. Но нет, молчит как все, ни слова в мой адрес, во всяком случае при мне.
Такой массовый игнор, может, и не особо приятная вещь, но лучше уж так. В конце концов я и сама не горю желанием с кем-то из них общаться. Да и вообще плевать я на них на всех хотела. Узнать бы только поскорее, кто и что сделал с моей мамой…
До вчерашнего дня я голову ломала, как это сделать. А вчера… вчера кое-что произошло, и меня вдруг осенило, как можно всё выяснить. Это, конечно, будет рискованно. Если всё всплывет, меня наверняка с треском отчислят. Но я ведь и не держусь за эту гимназию.
В общем, вчера после уроков меня вызвал к себе директор. Так получилось, что я дважды за неделю пропустила занятия. В первый раз — когда забирала маму из больницы, а второй — три дня назад — когда к ней приходил участковый невролог. Пришлось его ждать до обеда. И еще за мной числился один давний прогул — после вечеринки у Меркуловой.
А тут так заведено: два-три дня не появляешься и справки нет — на ковер к директору.
Кроме меня Ян Романович вызвал еще Соню и Яну. Тоже за пропуски.
Я впервые была в кабинете у директора. Сначала, правда, мы минут двадцать сидели втроем в приемной. К нему как раз пришел какой-то важный посетитель. Потом, когда гость ушел, секретарша пригласила нас войти.
Ян Романович небрежным жестом велел нам сесть за стол, приставленный перпендикулярно к его столу. Выдал нам резкую отповедь в духе: у нас есть возможность получить лучшее образование, а мы ее бездарно упускаем, еще и расшатываем порядок и дисциплину.
Затем ему позвонила секретарша, после чего Ян Романович страшно встревожился, а нам сказал:
— Мне нужно срочно отлучиться. Вот вам бумага, пишите объяснительные. Оставите их прямо тут, на столе. Я позже решу, как с вами быть.
Я быстренько написала и ушла. Соня с Яной почти сразу вышли следом. А уже на стоянке автобуса ко мне подошел математик. Предложил подвезти на своей машине до города.
Мне было, конечно, неудобно, но я торопилась к маме, и так директор нас задержал. Поэтому приняла его приглашение.
По дороге мы болтали о том о сем. Арсений Сергеевич заманивал меня на олимпиаду по математике.
— Ты должна поехать! Просто обязана выступить от нашей гимназии! — горячо настаивал математик. — Ну, кто, как не ты? К тому же победы на олимпиадах пригодятся тебе самой при поступлении, за них ведь дополнительные баллы идут. И вообще, это же престиж. Кстати, в прошлом и позапрошлом году от нас ездил Стас Смолин. Представляешь? Еще и призовое место получил. Самому теперь не верится. Но раньше он поспокойнее себя вел, это тут он что-то в разнос пошел. А тогда с ним можно было вполне нормально… хотя он всегда был не подарок, что уж. Впрочем, тут все такие. Даже пятиклашки. Ну так что, поедешь? Нос всем утрешь!