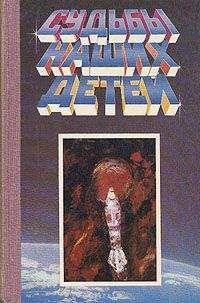Наталия Терентьева - Журавль в клетке
– Поучительно… – повторит она и засмеется.
– Крайне поучительно, – подтвержу я и тоже засмеюсь, искренне любуясь прекрасной, помолодевшей, загадочной Филипповой. Совсем другой Филипповой.
И я тогда сброшу годков эдак двадцать, а то и тридцать, подбоченюсь и скажу:
– Я такой же максималист и однолюб, как и вы… Не протестуйте, не протестуйте! Это для всех вы дама средних лет или чуть моложе, с некоторыми тараканами в голове и жестким, непреклонным нравом. Но я-то всегда знал…
Филиппова испугается, что я сейчас сделаю какую-нибудь глупость, свойственную мужчинам в самом расцвете лет или чуть старше, и натянет на физиономию самую свою противную маску, насмешливую, желчную. А я потороплюсь объясниться:
– Если бы не было такой странной предыстории этой книжки, ее стоило бы придумать. Согласны, моя дорогая Филиппова? И все-таки, скажите мне, старику, какого черта потянуло вас в эту Эфиопию, или Швецию, или куда вы усвистели тем осенним утром, в синем пальто, с растрепанными волосами?
И Филиппова откинется на спинку обшарпанного стула, распространяя по моему кабинету дынный аромат чего-то удивительного и не существующего в природе, лениво попросит чашечку кофе, который я не пью, и только тогда наконец улыбнется своей обычной, милой, немного растерянной улыбкой.
Когда она вернется…
1
День рождения Маши
– Ага, и был он маленький и говнистый, – подытожило мое чадо, выслушав в день своего пятнадцатилетия историю моей любви и своего появления на свет.
– Маша! – искренне возмутилась я, много лет пытавшаяся привить дочери отвращение к помоечно-просторечной лексике.
– Хорошо, – покладисто кивнула Маша. – Он был среднего роста и подловатый. Сойдет?
Я засмеялась, а она продолжила:
– Зачем же ты меня от такого козлодуя родила?
– Господи, Маша!.. Родила, потому что очень любила, разве неясно? А если ты задумаешься об этимологии слова «козлодуй», тебе станет тошно.
Тут уже засмеялась Маша:
– А у нас в школе новый охранник, знаешь, с какой фамилией? У него так и написано на табличке: «Security. Козодер Андрей». Я ему посоветовала приписать хотя бы «-ов» в конце. Козодеров поприличнее звучит.
– А он? – невольно спросила я и тут же в который раз подивилась чудесам наследственности: обаятельная способность ловко переключить внимание собеседника на совершенно другую, более приятную или веселую тему непостижимым образом досталась Маше от ее генетического отца. Может, нам стоит подумать о дипломатической карьере для нее? Хотя с Машиной внешностью ее сразу возьмут в оборот и сделают из нее Мату Хари, испортят бедной девочке жизнь. Нет уж, пусть лучше поет…
– Мам, а что, ты действительно больше ничего о нем не знаешь? – спросила Маша, заметив, что я отвлеклась и погрузилась в свои мысли.
Ну конечно. Вот этого я боялась больше всего, и не один год. Из трусости я не рассказывала Маше об отце, хотя по-хорошему это надо было сделать года два-три назад, а то и раньше. Но ее ведь не интересует и не может интересовать прошлое. Забавно, смешно – и не больше. Мама кого-то без памяти любила! Благополучная, спокойная, насмешливая мама… А вот кто он, тот человек, жив ли, где он сейчас, как выглядит… Только начни рассказывать!.. Казалось мне всегда.
Дальше – больше. Посыпались бы вопросы: а почему он не приходит, если, оказывается, живет вовсе не в Канаде, как я когда-то, преодолев яростное сопротивление немногочисленных родственников, стала рассказывать Маше, да так и привыкла? А почему он не любит ее, дочку Машу? И она еще не знает, что похожа вовсе не на литовского дедушку, а на своего отца, которого видела в слишком юном возрасте, чтобы запомнить. А почему, а почему…
Сотни вопросов могла задать мне дочка Маша, и среди них один, самый главный… А я не могу достойно и честно ответить ни на один из них.
***На сегодняшний день я действительно почти ничего не знала о Машином отце, который за восемь месяцев до ее рождения вдруг понял, что делать нам вместе больше нечего. Машу он, правда, повидал, когда ей было полторы недели от роду.
И даже дал ей свою не самую благозвучную и не самую русскую фамилию Соломатько. Вот зачем я ее взяла для дочки – это вопрос. Наверно, тогда еще на что-то надеялась – неизвестно на что. И к тому же не хотела, чтобы девочка была без роду и племени.
А Маша оказалась действительно его породы, со всей смесью кровей Соломатько Игоря Евлампиевича – хорошенькой, хитроватой и смышленой. Благо, что все это уравновесилось наследственностью по линии маминых родственников, а именно: великорусской душевностью и простотой, граничащими с глупостью. Кроме того, трудно сказать, от кого точно Маша приобрела с годами отличную фигуру и завидный рост. Ее могли бы взять в баскетбольную команду – она была бы самым маленьким, но самым ловким игроком в команде. Что же касается пения…
К Машиному таланту наша бабушка относится с благоговением, я – со страхом, а Маша – поплевывая, поскольку считает его чем-то само собой разумеющимся. Она родилась с таким голосом, с такими чудесными, просто невероятными вокальными данными. В одиннадцать лет Маша пела две с половиной октавы, а сейчас учится петь с самого начала, по сложной современной системе. Она часами делает упражнения вполголоса, а потом иногда просит меня:
– Мам, ну крикни хотя бы ты! Тошно просто от этого шепота!.. – и лупит по клавишам пианино так, что соседская собака Воробей перестает выть от голода и забивается куда-то в самую дальнюю от нашей стенки комнату.
Собака, между прочим, привычная ко всему. Хозяйка ее – Светка-барабанщица, моя подружка и тезка, – чуть подвыпив, много раз на полном серьезе предлагала мне застраховать Машин голос.
– Нет, правда, Свет! – кричит Светка в потолок (у нас такая удобная система общения между этажами: если громко разговаривать в углу кухни, где проходит широкая вертикальная батарея, то все отлично слышно и внизу, и наверху). – Вот, к примеру, наш синтезатор, какой-то паршивый «Самсунг», застрахован на две с полтиной! Зеленых, не деревянных! А ты разрешаешь Машке просто так ходить по улицам, когда у нее такое сокровище в глотке!
– У меня сокровище в виде моей мамы! – орет в ответ вежливая Маша, если присутствует при нашей беседе. – А в глотке у меня фигня какая-то! Еще неизвестно, во что разовьется!
Это почему же, Маша, неизвестно? – тихо спрашиваю я, напрочь забывая советы педагогов не поощрять детскую гигантоманию, которой Маша сильно страдала с раннего детства. Любила все большое – игрушки, предметы мебели, самые большие ложки и тарелки, головки сыра и буханки хлеба, больших собак на улице и свои фотографии, где у нее получались преувеличенно большие руки или ноги. «Я большая!» – говорила маленькая Маша, стоя перед зеркалом и при этом показывала руками, какая же она большая. Получалось впечатляюще.