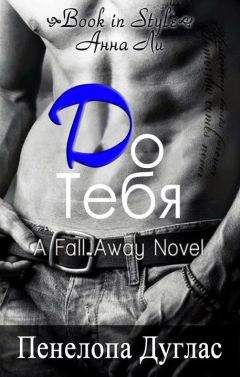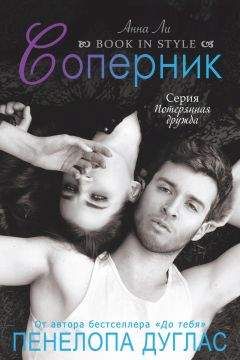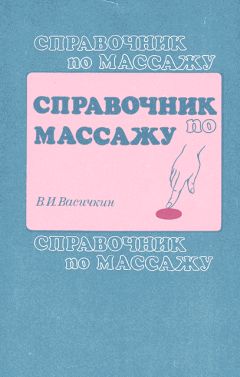Если бы не моя малышка (ЛП) - Голден Кейт
Последние несколько лет она гастролировала в составе разных групп, каждая из которых всё известнее предыдущей. В перерывах записывала свои песни и выступала с ними — иногда у нас в городе, иногда в Остине. Залы обычно полупустые, но мы с Майком всегда приходим заранее и делаем дурацкие плакаты. Мой любимый: Я ХОЧУ СЛУШАТЬ КАК ТЫ ПОЁШЬ ВЕЧНО.
И вот месяц назад ей наконец позвонили. Её бывший профессор, наставник огромной звезды кантри Габби Робинсон, отправил Габби демо Эверли. Габби искала кого-то малоизвестного, кто мог бы выступать у неё на разогреве в Нэшвилле.
Клементина: А как же тур с Холлораном, который ты уже забронировала?
Эверли Пейм: Он потрясающий артист. Этот альбом бьёт все чарты.
Эверли Пейс: Это будет отличная возможность заявить о себе. Да и вряд ли Габби вообще послушает моё демо…
До того, как профессор отправил её записи Габби, Эверли получила предложение всей жизни — петь бэк-вокал на восьминедельном туре по США с ирландской суперзвездой Холлораном, который выпускал свой второй альбом после триумфального, принесшего ему «Грэмми». Если льёт, то уж потопом.
Клементина: Когда ты узнаешь насчёт Габби?
Эверли Пейс: Сказали, в течение недели.
Клементина: Но тур Холлорана начинается через несколько дней…
Эверли Пейс: Знаю.
Клементина: Как репетиции? Как он сам?
Эверли Пейс: Хмм… Немного замкнутый. Безумно талантливый. ОЧЕНЬ высокий.
Эверли Пейс: А его клавишник просто огонь.
Клементина: УЖАС. Будь умной.
Клементина: (Не будь умной. И расскажи всё в деталях.)
Эверли Пейс: Лол. Ты уже едешь в Ladybird?
Ladybird Playhouse — не просто моё любимое место в центре Остина, но и то, где мы с Эверли начинали заниматься театром, когда школьных постановок уже не хватало, чтобы утолить наш музыкальный голод. Эверли до сих пор работает там в зрительном зале, когда не в туре. Благодаря этому у неё есть скидка на билеты — а значит, и у меня тоже. Сейчас, когда работа и уход за мамой занимают почти всё моё время, я давно не участвую в постановках, и вечера открытого микрофона в Playhouse стали для меня единственным творческим выходом за месяц.
Я смотрю на часы — почти одиннадцать.
Клементина: Думаю, уже слишком поздно.
Эверли Пейс: Ну же, детка. Сейчас нет пробок. Ты успеешь как раз к последнему выходу.
Клементина: Я сегодня отработала две смены подряд. Могу уснуть за рулём.
Эверли Пейс: Ты не способна на такую халатность.
Эверли Пейм: Нужно находить время для того, что любишь. Давай, вперёд!!
Мои веки уже протестуют, но она права. Я вылетаю из кровати и, на ходу ища ключи, пишу ей ещё одно сообщение.
Клементина: …… Ладно.
Эверли Пейс: Ура! Пришли видео твоего выступления, я скучаю по твоему лицу.
Эверли Пейс: И по твоему голосу, разумеется.
Клементина: Видела когда-нибудь зомби, поющего мюзиклы?
Эверли Пейс: Звучит забавно.
Эверли Пейс: Я вырубаюсь, у нас завтра ранняя репетиция.
Клементина: ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.
Эверли Пейс: хохохохохохо.
Дорога от Черри Гроув до Остина занимает около часа, но я добираюсь за сорок шесть минут. Машина резко останавливается под яркой вывеской Live Music, и я вбегаю внутрь. От меня всё ещё пахнет буррито, потому что я не успела принять душ, и, возможно, у меня на подбородке средство против прыщей, но мне всё равно — стоит только услышать разлив фортепиано, и я чувствую прилив энергии, которой не хватало всю неделю.
— Я не опоздала? — спрашиваю я у замены Эверли, женщины с вьющимися волосами и длинными серьгами. Она убирает ноты в папку на стойке администратора.
— Почти. Можешь закрывать вечер.
Я выдыхаю с облегчением. — Отлично.
— Присядь, — говорит она. — Скоро позову тебя.
На сцене сейчас мужчина постарше, в бомбере пятидесятых. Он играет плавную джазовую мелодию — то ли Чет Бейкер, то ли Дюк Эллингтон, я уже слишком выжата, чтобы точно понять. Но в любом случае эти колеблющиеся ноты проникают в самые кости, разливаясь по телу успокаивающим теплом. Я беру газированную воду в баре и сажусь в заднем ряду, чтобы послушать перед своим выходом.
Я обожаю смесь людей, которая собирается здесь на вечерах открытого микрофона. От молодых певцов, мечтающих пробиться на кантри-сцену Остина, до возрастных рокеров, ушедших на покой где-то в глубинке, и до таких, как я, безнадёжных фанатов мюзиклов. Наверняка где-то есть бары и клубы только для любителей шоу-тюнов — может, в Нью-Йорке или Лондоне, — но Ladybird Playhouse лучше, потому что здесь всё вперемешку. Как плейлист, собранный десятью незнакомыми людьми. Как общий набросок, который продолжают чужие руки. Я правда рада, что Эверли уговорила меня приехать.
Джазовая мелодия заканчивается под искренние аплодисменты, и женщина с длинными серьгами зовёт меня на сцену. Я пробираюсь через знакомую толпу, ставлю телефон у края сцены, чтобы записать выступление.
Ladybird Playhouse — совсем маленький зал, всего сто пятьдесят мест, но на джазовые, комедийные и такие вот вечера открытого микрофона всегда пускают и стоячие места. И всё же, когда я выхожу на потёртую сцену, отмеченную клейкой лентой, настраиваю микрофон и смотрю в темноту, у меня ощущение, будто передо мной миллионы людей. Толпа, ждущая моего голоса — грудь расправляется от предвкушения.
Вдохновившись разговором с Эв, я включаю ноты к песне “Something's Coming”. Обычно её поёт Тони — главный герой “Вестсайдской истории”. Иногда я изменяю шоу-тюнам — Флитвуд Мак, Лане Дель Рей, Дженис Джоплин, — но всё равно всегда возвращаюсь к Бродвею. Особенно в такие вечера, как сегодня: после двойной смены, неудачного свидания и плохих новостей о клинических испытаниях.
Надежда, что звучит в голосе Тони, и шорох малой тарелки в барабанной установке наполняют грудь таким светом, что дыхание перехватывает. Я открываю рот — и теряюсь в этом чуде. Песня о том, что впереди. О предчувствии, что жизнь вот-вот изменится — и изменится к лучшему. Когда ты знаешь это так же твёрдо, как то, что солнце взойдёт утром.
Это чувство мне не знакомо, но в этом и есть магия мюзикла. Музыки вообще. Это то же самое бегство в историю, только усиленное медленно нарастающими аккордами и глубокими вокальными падениями. Ты чувствуешь всё телом — в ритме ног, в слезах, что подступают к глазам, в лёгком покалывании на затылке. Это, наверное, самое близкое к тому, чтобы быть унесённой прочь.
Припев вырывается из груди:
— Что-то грядет, я не знаю, что именно, но это будет что-то великое...
Хотя в полумраке зала я не вижу лиц, я чувствую, как оживает всё пространство. Они явно не ожидали шоу-тюна. Наверное, поёжились при первых старомодных нотах — и я их не виню. Но теперь… теперь они чувствуют это. Подъём, ритм...
Ту самую дозу чистого оптимизма, вплетённого в каждую строчку.
А может, это только мне так кажется. Может, я одна здесь ощущаю, как всё внутри вспыхивает и расправляется, как я сама становлюсь выше и ярче с каждым куплетом. И это тоже нормально. Эти вечера — только для меня. Для всего, от чего я отказалась. Для всего, за чем смирилась не гнаться. Чтобы музыка снова ожила во мне, пусть всего на несколько минут. Чтобы я вспомнила, кто я, когда случается это неописуемое волшебство.
Когда я выдыхаю последние слова, небольшая публика уже встаёт с мест, аплодируя.
3
Я по локоть в сломанной фритюрнице, напеваю себе под нос «Greased Lightnin'», когда телефон в третий раз вибрирует у меня в заднем кармане. Дважды — это повод насторожиться. Трижды — значит, стоит волноваться, вдруг что-то с мамой. Я вытираю руки от холодного масла и вытаскиваю телефон как раз вовремя, чтобы увидеть на экране имя Эверли. С облегчением выдыхаю.