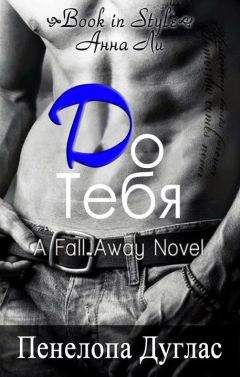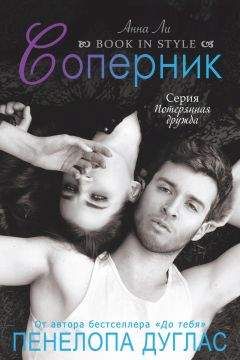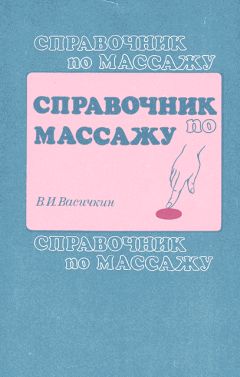Если бы не моя малышка (ЛП) - Голден Кейт
Я возвращаюсь за любимой Y-образной костью нашей собаки, валяющейся на её лежанке. С полными руками вкусностей я забегаю в подвал и нахожу маму на диване — рядом с ней свернулась Уиллоу. В воздухе густо висит аромат цитрусов — свечи, наверное, горят уже несколько часов.
— Как дела на работе? — спрашивает мама, не отрывая взгляда от телевизора.
У меня сжимается сердце. По её голосу я сразу понимаю: фибромиалгия снова даёт о себе знать. Обычно её глаза сияют, но сейчас потускнели; блестящие светлые волосы собраны в небрежный узел. Она машинально мнёт плечо — явно болит весь день.
— Как обычно, — отвечаю я. Не стоит рассказывать ей про неудавшееся свидание. Впрочем, это уже можно считать частью «как обычно».
Я передаю ей таблетки и содовую, и она, как профессионал, запивает всё одним глотком. Потом протягиваю Уиллоу кость, мысленно напоминая себе подстричь ей чёлку — у нашей овчарки имя выбрано не зря: шерсть полностью закрывает глаза. Интересно, видит ли она вообще тот жевательный лакомый кусок, который сейчас засовывает в пасть. Я целую её в макушку — и тут же чихаю. Уиллоу даже ухом не ведёт.
— Господи, ты же только что была в аптеке — неужели не купила себе антигистаминные таблетки?
— Они стоят, типа, тридцать баксов, — сказала я, отодвигая её руку, чтобы самой помассировать плечо. — Мои чихи — часть моей личности. Что если ты ослепнешь однажды? Как ты узнаешь, где я?
Мама закатила глаза.
— Если я тоже ослепну, можешь просто вывести меня во двор и пристрелить, в стиле Старого Брехуна2.
Я хлопаю её по плечу. — Эй. Ничего смешного.
— Бет сказала, Майка повысили. Впечатляет, правда?
— Угу, — бормочу, сосредоточенно разминая узелок на её плече.
— Может, нам всем вместе сходить поужинать, отпраздновать?
— Обязательно.
Я не возражаю — люблю проводить время с Майком и его мамой. А моя мама просто хочет помочь. Всё-таки женщину, которую в шестнадцать бросила любовь всей её жизни, оставив после себя только ребёнка — нельзя не понять. Потом — годы сердечных ран, хроническое заболевание, нескончаемые неудачные ухажёры… и всё это, пока она одна воспитывает ребёнка. Тут невольно захочешь, чтобы дочь когда-нибудь шла к алтарю, счастливая и целая.
А Майк — отличный кандидат для похода под венец. Я знаю его всю жизнь — его мама, Бет, была вроде как приёмной матерью для моей мамы. Они единственные две матери-одиночки в нашем городке. Так что Майк с самого начала понимал моё положение. Он наблюдал, как я проходила через старшую школу с мамой, которая была всего на шестнадцать лет старше меня — и при этом куда более привлекательной. Даже сейчас — длинноногая, с идеальной фигурой, а я метр шестьдесят три и ровная, как доска, со всех сторон. У неё миндалевидные кошачьи глаза, как у модели с подиума, а у меня — огромные оленьи глаза, из-за которых учителя в средней школе называли меня Pixar.
И, если говорить о парнях, тогда Майк был как ромашка посреди сорняков. Добрый, внимательный, любил собак и блошиные рынки, как и я. К концу школы я уже смирилась: все вокруг знали, что мы с ним — неизбежная пара, кроме меня самой. Мы встречались год, пока он не начал говорить о свадьбе. Тогда я всё и закончила. Это был, пожалуй, самый разочарованный момент в жизни моей мамы по отношению ко мне.
— Мне ответили из страховой компании, — говорит мама.
— Плохие новости?
Она делает неопределённую гримасу, но я вижу — плохие.
Я сильнее надавливаю на её плечо:
— Совсем ничего не покрывают?
— Технически нет, но…
— Это просто абсурд. Нам нужно найти тебе другого врача. Какой смысл в клинических испытаниях, если никто не может их пройти, потому что это чертовски дорого? — говорю я, чувствуя, как голос начинает срываться.
Уиллоу поднимает голову от своей кости, тревожно глядя на меня.
Мама тоже хмурится. Даже нахмуренная, она красивая. И такая усталая. Бедная мама.
— Клементина, всё в порядке, — говорит она мягко.
— Нет, не в порядке. Я завтра им позвоню.
— Мне, правда, уже немного лучше, — произносит она, с усилием зачерпывая мороженое ложкой.
— Пусть чуть подтает, — говорю я.
Она говорит, что ей «немного лучше», примерно раз в неделю, хотя болеет уже больше десяти лет. Сначала врачи решили, что это анемия. Потом подозревали артрит, волчанку, рак — эти дни были самыми ужасными — пока, исключая вариант за вариантом, не сошлись на фибромиалгии.
Это одно из самых тяжёлых испытаний при таких «невидимых» болезнях — никакой возможности точно подтвердить диагноз, только исключить остальные. Рациональных людей вроде меня сводит с ума сама мысль, что не существует ни точного объяснения, ни лечения. А значит, лекарства, которые хоть как-то помогают справляться с симптомами — вспышками хронической боли по всему телу, ужасной усталостью, бессонницей и скованностью — постоянно меняются и становятся всё дороже с каждым годом. Мама уже почти не может работать, и мне чертовски повезло, что мой начальник — старый друг, который позволяет уходить раньше, когда нужно отвезти её на приём.
На экране Скалли пытается разобраться в чём-то, что не поддаётся логике. Краем глаза я замечаю, как мама беззвучно повторяет за Молдером его реплику: «Иногда единственный разумный ответ на безумный мир — это безумие.»
Она тянется рукой к моей, не отрывая взгляда от экранной пары, и я отвечаю на её молчаливую просьбу, сжимая её пальцы. Мама снова берёт ложку, зачерпывает мороженое и, с набитым ртом, мечтательно произносит:
— Дэвид Духовны был таким милашкой. Не могу поверить, что он сексоголик.
2
После того как я покормила и выгуляла Уиллоу, я спускаюсь обратно в подвал и вижу, что мама уже крепко спит. Пустая коробка из-под Phish Food валяется на полу, по телевизору всё ещё идёт марафон Секретных материалов. Я накрываю её лоскутным одеялом и выключаю телевизор. Подвал, который когда-то должен был стать её гончарной мастерской, давно превратился во вторую спальню. Неиспользуемый гончарный круг всё ещё стоит за диваном рядом с покрытыми пылью тряпками. Один парень, с которым она сходила на два свидания, купил ей печь для обжига — теперь она хранит там обувь. Как Кэрри Брэдшоу, сказала она тогда.
Наш дом странно устроен — шаткий и угловатый. В нём есть и подвал, и чердак, что редкость для домов в Техасе. Он принадлежал моим бабушке с дедушкой, и скрипучие деревянные ступени с облупившейся пастельной плиткой выдают это с головой. Из-за необычной планировки — четыре этажа, но в каждой комнате мало места — маме бывает тяжело подниматься в спальню, особенно когда болезнь обостряется. Я предлагала спустить всё вниз — Майк с друзьями мигом помогли бы перетащить матрас и кровать, — но мама каждый раз говорит, что чувствует себя лучше, и просит подождать неделю.
Когда я наконец привожу в порядок кухню, оплачиваю счета и выношу мусор, оказывается, что уже десять. Слишком поздно, чтобы успеть на ежемесячный вечер открытого микрофона в Ladybird Playhouse. Измотанная, я забираюсь в кровать и включаю на ноутбуке Вестсайдскую историю. Вот это история любви, которую я понимаю: трагичная, честная, пробирающая до слёз.
И музыка.
В плохие дни я включаю весь альбом — час и восемнадцать минут — в машине и рыдаю в голос. Ни один другой альбом на свете не сравнится с оригинальной бродвейской записью.
Собственно, я пишу об этом в сообщении своей лучшей подруге и соратнице по мюзиклам, Эверли.
Эверли Пейс: Annie Get Your Gun лучше.
Клементина: Ты спятила.
Эверли Пейс: There's No Business Like Show Business — самая известная песня из мюзикла!
Клементина: Ни на одной планете!
Клементина: Ты просто пьянa от кантри-музыки.
Эверли Пейс: Правда… Я так хочу получить место на разогреве у Габби Робинсон.
Я попала в театр потому, что мама не могла позволить себе няню, а спортивных талантов у меня не наблюдалось. Там я встретила Эверли, и мы вместе росли на сцене. Я обожала всё — петь, играть, танцевать, ставить постановки. А Эверли интересовало только одно — эффектные вокальные пассажи и сложные рифы. Мы обе получили стипендии в колледж Беркли, но мама тогда слишком болела, чтобы работать, и я не смогла поехать с ней. Эверли изучала там музыкальную теорию и отточила свой голос. Он и раньше был нереальным, а теперь она ещё и пишет песни — как будто поп-панк с привкусом сладкого кантри.