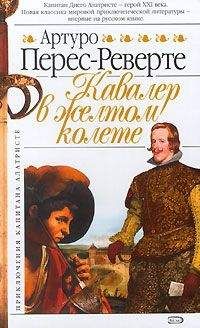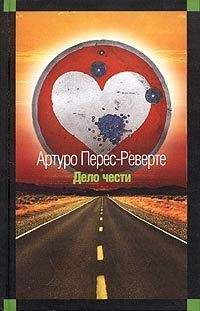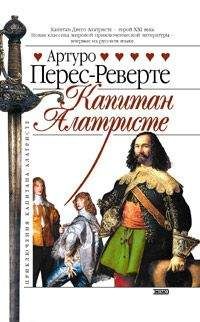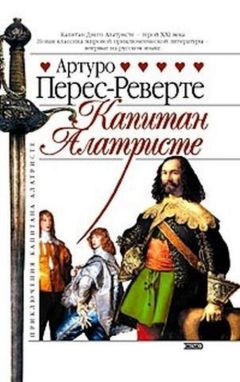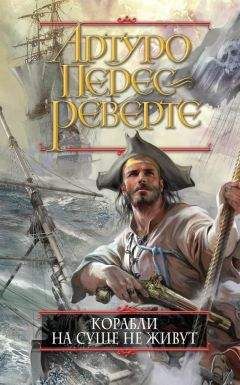Артуро Перес-Реверте - Танго старой гвардии
— А я ответил, что не знаю. — Макс в смущении прикоснулся к полю шляпы. — На корабле вы, помнится…
И намеренно запнулся, глядя, как прямоугольник солнечного света лежит ковром на пересечении улиц Коррьентес и Флориды. На самом деле его слова про обстоятельства сказаны были для проформы. Еще сколько-то шагов он прошел молча, думая о женщине — о ее оголенной спине и о бедрах, закрытых невесомой тканью. И о великолепном колье в вырезе платья, играющем под электрическими огнями танцевального салона.
— Очень хороша, не так ли?
Макс, и не оборачиваясь, знал, что Армандо де Троэйе смотрит на него. И он предпочитал не угадывать, как именно.
— Кто?
— Сами знаете, кто. Моя жена.
После краткого молчания Макс наконец обернулся к собеседнику:
— А вы, сеньор де Троэйе?
Мне не нравится его улыбка, осознал он внезапно. И не та, что сейчас у него на губах, а вообще. И эта манера топорщить ус. Вполне вероятно, и раньше тоже не нравилась.
— Зовите меня просто Армандо. Мы уже давно знакомы.
— Хорошо, Армандо. Итак, чего же хотите вы?
Они уже свернули налево и шли по Флориде — с трех часов дня только пешеходы, автомобили, припаркованные на углах, и множество витрин по обе стороны. Вся улица казалась одной бесконечной торговой галереей. Армандо де Троэйе показал туда, как будто ответ был очевиден:
— Да вы же знаете. Написать незабываемое танго. Позволить себе эту прихоть и доставить себе это удовольствие.
Произнося эти слова, он рассеянно рассматривал витрину, где были выставлены мужские сорочки фирмы «Gath & Chaves». Оба шли в потоке прохожих — главным образом, нарядных женщин, — который струился по тротуарам. С обложки последнего номера журнала «Карас и каретас», выставленного в газетном киоске, им широко улыбался Гардель.
— Все началось с пари. Я был в Сан-Хуан-де-Лус, в гостях у Равеля, и он дал мне послушать эту чушь, которую сочинил для балета Иды Рубинштейн, — настырное болеро, не имеющее развития, основанное только на разных градациях оркестра… Если ты смог написать такое болеро, сказал я ему, я смогу написать танго. Мы посмеялись и поспорили: проигравший платит за ужин. Ну и вот… Я здесь.
— Я не танго имел в виду, когда спрашивал, чего вы хотите. Вернее, не только танго.
— Танго не напишешь одной лишь музыкой, друг мой. В счет идет и то, как ведут себя люди. Это торит дорогу.
— А я-то что делаю на этой дороге?
— К вам я обратился по нескольким причинам. Во-первых, вы откроете двери в ту среду, что интересует меня. С другой стороны, вы исключительно танцуете. И, в-третьих, внушаете мне симпатию… И в отличие от многих и многих, рожденных здесь, не считаете, что быть аргентинцем уже есть заслуга и высшее отличие.
Макс на ходу, не останавливаясь, взглянул на витрину магазина швейных машинок «Зингер», в которой отражались они оба. Когда они стоят вот так, рядом, за этой знаменитостью нельзя признать никаких преимуществ. При всей безупречности манер и элегантности облика Армандо де Троэйе внешне уступал танцору. Тот был стройней и почти на голову выше. И держался не хуже. И одежда его, пусть скромная и поношенная, сидела на нем как влитая.
— Ну хорошо… А ваша жена? Как с ней?
— Ну, это вам должно быть известно лучше, чем мне.
— Вы ошибаетесь. Представления не имею.
Они остановились перед выложенными на стенде книгами — на этой улице было много букинистических лавок. Де Троэйе взял трость под мышку и, не снимая перчаток, вяло, без интереса перелистал одну из книг. Потом с безразличным видом сказал:
— Меча — особенная женщина. Она не только красива и изящна… В ней есть кое-что помимо этого. И, может быть, намного больше этого. Я ведь музыкант, не забывайте. Сколь ни велик мой успех, сколь ни рассеянной кажется жизнь, которую я веду, моя работа неизменно становится между мной и всем остальным миром. Меча — это мои глаза. Мои антенны, если можно так выразиться. Она отцеживает и фильтрует для меня все вокруг. Сказать по правде, до знакомства с ней я и не начинал даже познавать всерьез ни жизнь, ни самого себя… Она из тех женщин, что помогают постигать время, в которое нам выпало жить.
— Но я-то здесь при чем?
Де Троэйе снова взглянул на него. Спокойно и чуть лукаво.
— Боюсь, мой дорогой друг, сейчас вы чересчур возомнили о себе.
Он остановился и, опираясь на трость, снизу вверх взглянул на Макса. Взглянул так, словно беспристрастно и трезво оценивал наружность танцора.
— А впрочем, по здравом размышлении… — вдруг прибавил он. — Может быть, и не чересчур.
И внезапно зашагал дальше, надвинув канотье на брови. Макс двинулся следом.
— Знаете, что такое «катализатор»? — спросил, не оборачиваясь, де Троэйе. — Нет? По-научному говоря, нечто, способное вызывать химические реакции и трансформации, и при этом не меняться само. А если проще — ускорять или облегчать развитие определенных процессов.
Макс услышал его смех. Тихий, словно сквозь зубы. Так смеются над удачной шуткой, смысл которой понятен тебе одному.
— И вы кажетесь мне интересным катализатором, — добавил композитор. — И позвольте еще сказать вам то, с чем вы, без сомнения, согласитесь… Больше ассигнации в сто песо или бессонной ночи не стоит ни одна женщина в мире, если только вы не влюблены в нее. И моя жена — тут не исключение.
Макс отступил в сторону, давая пройти какой-то даме с покупками в фирменных пакетах. За спиной у него, на перекрестке, который они только миновали, раздался протяжный автомобильный гудок.
— Это опасная игра, — возразил он. — Требует умения и навыка.
Смех де Троэйе, сделавшись еще более неприятным, стал затихать и вот смолк, словно иссяк. Композитор остановился и снова взглянул в глаза Максу, из-за разницы в росте — снизу вверх.
— Вы и не знаете, какую игру я затеваю. Но если согласитесь участвовать в ней, я готов заплатить вам три тысячи песо.
— Не слишком ли щедро за одно танго?
— За гораздо большее. — Указательный палец почти уперся ему в грудь. — Соглашаетесь или отказываетесь?
Макс пожал плечами. Вопрос никогда не обсуждался прежде, и оба это знали. Не обсуждался до тех пор, пока на сцену не вышла Меча Инсунса.
— Значит, Барракас, — сказал он. — Сегодня вечером.
Армандо де Троэйе медленно склонил голову. Сумрачное выражение его лица плохо вязалось с тем удовлетворенным, почти ликующим тоном, каким он произнес:
— Вот и замечательно! Да. Барракас.
Отель «Виттория», Сорренто. Послеполуденное солнце золотит занавески на полуоткрытых окнах зала. Перед восемью рядами мест для публики неоновые лампы льют «дневной» — безжизненный и ровный — свет на эстраду, где стоит стол, а в глубине, рядом с другим, судейским, укреплено огромное настенное табло, на котором ассистент обозначает развитие партии. В просторном зале с раззолоченным потолком и множеством зеркал царит торжественная тишина, через неравные и протяженные промежутки времени нарушаемая стуком фигуры, занявшей новую клетку, да двойным щелчком шахматных часов — каждый из игроков нажимает соответствующий рычажок, прежде чем записать в разграфленный лист сделанный только что ход.