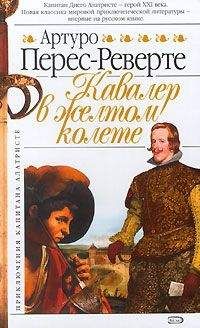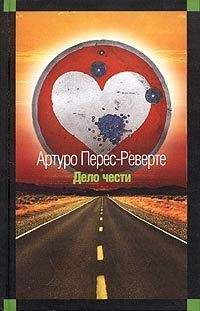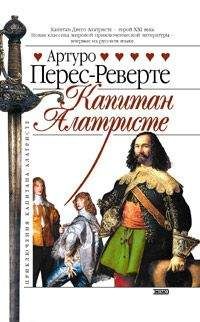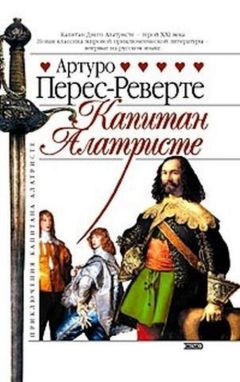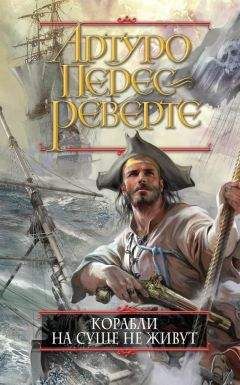Артуро Перес-Реверте - Танго старой гвардии
— И с текстами произошло нечто подобное?
— Да, но относительно недавно. Поначалу была только музыка или театральные куплеты. Когда я был еще ребенком, танго только-только начинали петь, и слова неизменно были малопристойные, лукавые — двусмысленно-похабные истории, которые рассказывались от лица циничных проходимцев…
Он замолчал, засомневавшись на миг, что продолжать будет уместно.
— И что же?
Это произнесла Меча, играя серебряной ложечкой. И Макс решился.
— Ну… Стоит только вспомнить, что некоторые невинные на первый взгляд названия — «Ветерок слабоват, а пыль столбом», или «Семь дюймов», или «Немытая рожа» — на самом деле значат совсем другое. Или «Раковина Лоры».
— Кто такая эта Лора?
— «Проститутка» — на воровском арго. Гардель[17] часто использует его в своих танго.
— А раковина?
Макс, не отвечая, взглянул на де Троэйе. Усмешка позабавленного композитора превратилась в широкую улыбку.
— Понятно, — сказал он.
— Понятно, — через секунду повторила она. И не улыбнулась.
Танго чувствительное, продолжал Макс, — недавнее явление. Слезливые баллады, где непременно действуют бандиты-рогоносцы и сбившиеся с пути женщины, обрели популярность благодаря Гарделю. И под его пером цинизм преступника стал жалостным и меланхоличным. За поэтами такое водится.
— Мы с ним познакомились два года назад, когда он гастролировал в Мадриде, — сообщил Армандо де Троэйе. — Очень милый человек. Немного шарлатан, конечно, но очень располагает к себе, — он взглянул на жену. — И эта его знаменитая улыбка, да? Как будто он тут вообще ни при чем.
— Я его видел только однажды и то издали — в «Тропесоне», — сказал Макс. — Он ел куриное пучеро.[18] Вокруг, как всегда, толпились люди, и я не решился подойти.
— Поет он замечательно. Но немного слишком томно и сладко, не находите?
Макс затянулся сигаретой. Де Троэйе, подливая себе коньяку, предложил и ему, но тот молча качнул головой.
— Он ведь в самом деле изобрел этот стиль. Прежде были только куплеты или бордельные песенки… Едва ли у него найдутся предшественники.
— А в отношении музыки? — Де Троэйе чуть пригубил и поверх бокала посмотрел на Макса. — В чем, по-вашему, разница между танго старым и современным?
Макс откинулся на спинку кресла, указательным пальцем слегка тронул сигарету, сбивая столбик наросшего пепла.
— Я ведь не музыкант. Я всего лишь зарабатываю себе на жизнь танцами. И не сумею, наверное, отличить целую ноту от восьмушки.
— И тем не менее я хочу знать ваше мнение.
Макс еще несколько раз затянулся сигаретой и лишь после этого ответил:
— Я могу сказать лишь о том, что знаю. Что помню… Произошло то же самое, что и с манерой танцевать и петь танго. Поначалу музыканты продвигались на ощупь, по наитию и разрабатывали малоизвестные темы по партитурам фортепиано или по памяти. Импровизировали наподобие джазменов.
— А что это были за оркестры?
Маленькие, уточнил Макс. Три-четыре человека, простые аккорды, максимальная быстрота исполнения. Скорее интерпретации, чем оригинальные композиции. Со временем эти группы усвоили кое-какие новшества: вместо гитар — соло фортепьяно и в дуэте со скрипкой… Это помогало неопытным танцорам и новичкам-любителям. Потом к новому танго приспособились и профессиональные оркестры.
— Это танго мы и танцуем, — договорил Макс Коста и очень аккуратно погасил в пепельнице окурок. — Оно и звучит в салоне «Кап Полония» и в приличных заведениях Буэнос-Айреса.
Меча Инсунса раздавила свою сигарету в той же пепельнице — но спустя несколько секунд после того, как это сделал Макс.
— А другое? — спросила она, играя мундштуком. — Что стало со старым танго?
Он не без труда отвел глаза от ее рук — тонких, изящных и породистых. На безымянном пальце левой сверкало золотое кольцо. Подняв голову, он перехватил устремленный на него взгляд де Троэйе — пристальный, но лишенный всякого выражения.
— Так и идет до сей поры, — ответил он. — Все дальше оттесняется на обочину, все реже встречается. И когда изредка его все же играют, почти никто не танцует. Оно труднее. Жестче, грубее.
Макс помедлил. С такой улыбкой, что внезапно заиграла у него на губах, обычно что-нибудь припоминают.
— Один мой приятель говорит, что есть танго страдательные, а есть убийственные… Оригинальное танго относится ко второй категории.
Меча Инсунса облокотилась на стол, подперла щеку ладонью. Казалось, она слушает его с огромным вниманием.
— Его порой называют «танго старой гвардии», — уточнил он. — Чтобы отличить от нынешних, современных.
— Красиво, — заметил композитор. — Откуда взялось такое название?
Теперь его взгляд никак нельзя было счесть бесстрастным. Де Троэйе вновь превратился в любезного хозяина. Макс чуть развел руками:
— Не знаю. Затрудняюсь сказать вам. Вероятно, в память какого-нибудь старого танго…
— И оно все так же… непристойно? — спросила она.
Спросила тусклым голосом, безразличным тоном. Как если бы ученый-энтомолог справлялся у коллеги, насколько непристойно спариваются майские жуки. Если, конечно, они спариваются, подумал Макс. Почему бы им, впрочем, не спариваться?
— Это зависит от того, где танцуют.
Армандо де Троэйе был в восторге от услышанного.
— Замечательно интересно все, что вы рассказали, — сказал он. — Это превзошло все мои ожидания. И поменяло мои представления. Я хотел бы увидеть это своими глазами… Увидеть это танго в его естественной, так сказать, среде обитания.
— Насколько мне известно, сейчас такое можно увидеть лишь там, где приличным людям появляться не стоит, — ответил Макс уклончиво.
— И вы знаете в Буэнос-Айресе такие места?
— Знать-то я знаю… Но… — Он помедлил, взглянул на Мечу Инсунсу. — Порядочной женщине туда лучше не ходить… это может быть небезопасно.
— На этот счет не тревожьтесь, — сказала она очень холодно и очень спокойно. — Нам уже случалось бывать в неподобающих местах.
Вечереет. Солнце, клонясь к закату, еще висит над мысом Капо, окрашивая в красновато-зеленые тона стены вилл, густо рассыпанных по склону. Макс Коста в том же темно-синем блейзере и серых фланелевых брюках — он лишь сменил шелковый шейный платок на завязанный виндзорским узлом красный галстук в синюю точку — выходит из своего номера и присоединяется к другим постояльцам, пьющим аперитивы перед ужином. Кончилось лето, а с ним — и многолюдство, но благодаря шахматному матчу в отеле оживленно почти по-прежнему: заняты едва ли не все столики в баре и на террасе. Плакат на подставке сообщает о том, что утром состоится очередная партия матча Келлер — Соколов. Остановившись, Макс рассматривает фотографии соперников. Из-под густых бровей — они такого же пшеничного цвета, что и ежик на голове, — светлые водянистые глаза советского чемпиона недоверчиво всматриваются в фигуры на доске. При виде его округлого, простецки-грубоватого лица, склоненного над доской, невольно думается, что несколько поколений его предков так же смотрели, уродился ли хлеб, следили за передвижением облаков по небу, гадая, дождь завтра будет или вёдро. А рассеянный, почти мечтательный — даже немного наивный, думает Макс — взгляд Хорхе Келлера устремлен прямо в объектив. Но впечатление такое, что видит он не фотографа, а кого-то или что-то, находящееся чуть поодаль и не имеющее никакого отношения к шахматам, и кажется, будто гроссмейстер по-юношески грезит наяву или созерцает какие-то смутные химерические образы.