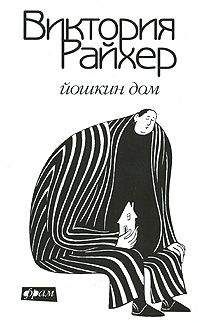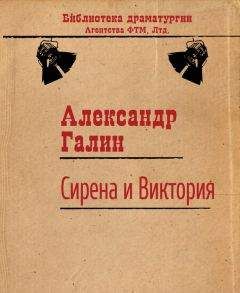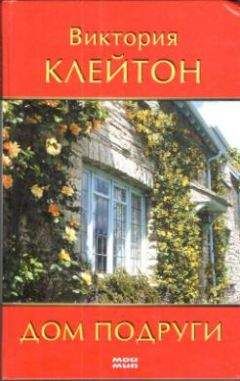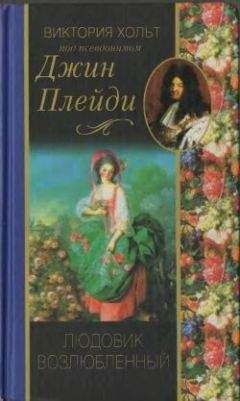Анна Берсенева - Вокзал Виктория
– Кого, Андрюша?
В мамином голосе слышался почти что испуг; Полина почувствовала его так же явственно, как папину радость. От любых потрясений, даже прекрасных, мама не ожидала хорошего.
– Сережу! – радостно сообщил папа. – Сережу Рахманинова. Он выходил, вообрази себе, из нотного магазина на рю Риволи, остановился купить фиалок, а я как раз расплачивался с цветочницей. Ты не представляешь, как он обрадовался!
– Представляю. – Мама улыбнулась. Даже улыбка не сообщала ее лицу видимости счастья. – Я бы тоже обрадовалась соседу и приятелю юности.
О том, что композитор Рахманинов был папиным соседом по тамбовскому имению, знала даже Полина, не считавшая сведения такого рода существенными. Еще в раннем детстве она поняла из родительских разговоров, что все сколько-нибудь незаурядные люди в России были приятелями детства или соседями – по дому в Петербурге, по переулку в Москве, по подмосковной даче или по имению в какой-нибудь дальней губернии. Так уж была устроена эта огромная страна, что все значительное в ней умному человеку невозможно было миновать, просто живя своей естественной жизнью. Отметив для себя однажды эту особенность, Полина не придавала ей значения. Та жизнь в России все равно кончена, и какая разница, как она была устроена?
А знакомых и соседей по той прежней жизни папа и мама встречали в Париже постоянно. Вот, еще одного встретили. Конечно, Рахманинов великий композитор, это всем известно, но ведь и Иван Сергеевич Шмелев тоже великий, он писатель, и папа даже нарочно давал Полине читать его рассказы, чтобы она усвоила настоящий русский язык, – а с ним родители встречаются не так уж редко… Одним словом, о встрече папы с Рахманиновым Полина забыла ровно через пять минут после того, как услышала.
И напрасно! Через три дня Рахманинов пригласил папу с женой и дочерью на свой концерт, а после концерта на ужин, а там, в ресторане… Там Полина увидела женщину, которая поразила ее так, как ни один человек, да и ничто вообще не поражало в жизни.
Она вошла, когда гости уже собирались сесть за стол, и все сразу же забыли об ужине, и все взгляды сразу обратились на нее. В ресторанном зале собралось много красивых, с тонким вкусом одетых дам, поэтому в таком мгновенном и всеобщем внимании к одной было что-то необъяснимое. Но не пугающее это было внимание – в вошедшей высокой, очень стройной женщине не было ничего зловещего или мрачного, – а магическое.
В этой женщине был вызов. В каждом ее движении, и во взгляде, и в повороте головы, и даже в том, что ее тонкий, с горбинкой нос был длиннее, чем допустимо, чтобы лицо могло считаться красивым, но при этом ее лицо было не просто красивым, а невыразимо прекрасным… Значительным оно было!
Вся она – и внешность ее, и проявленная через внешность суть – была значительна, вот что Полина поняла, ошеломленно на нее глядя.
На ней было платье из темно-золотой, с багровыми разводами ткани. Из-за своего цвета ткань казалась тяжелой, но в действительности была такой тонкой, что от каждого движения и даже вздоха колебалась, как занавес, и так же, как театральный занавес, скрывала за собою что-то небывалое, не принадлежащее никому, но всем обещающее загадку и счастье.
И в такой расцветке платья тоже был вызов, кстати, и на ком угодно другом оно показалось бы безвкусным, но на этой женщине – наоборот: в ее платье был стиль, и понятно было, что он создан ею и только ей присущ.
– Кто это? – спросила Полина у мамы, пока гостья здоровалась с Рахманиновым.
– Ида Рубинштейн, – ответила мама. – Балерина. Эпатажная, правда? Впрочем, с ее богатством можно себе позволить все что угодно, в том числе и эпатаж.
Полина так не считала. В лицее, где она училась, было немало девочек из очень богатых семей, и мельком, не слишком приглядываясь, но все же наблюдая за их родителями, она давно уже поняла, что само по себе богатство не делает человека значительным. Отец ее подружки Элен владел судоверфями где-то в Польше и был богат как Крез, но одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, как он скучен и зауряден.
Нет, богатство Иды Рубинштейн, конечно, имело значение, без него не закажешь у кутюрье такое платье из золото-багряного шелка, но оно являлось лишь обрамлением чего-то другого, присущего ей от природы и полностью ею воплощенного.
Весь вечер Полина не сводила с Иды глаз. Та сидела на другом конце стола, поэтому не было слышно, что она говорит, и только однажды, отвечая на вопрос какого-то пухлого господина, сидящего близко от Полины, Ида произнесла громко:
– Не вижу для себя выбора между путешествиями и искусством. Первое велико, но второе безгранично. А полная смена впечатлений необходима мне постоянно, иначе я чувствую себя больной.
– Гордыня, и вокруг себя гордыню сеет, – проворчал потом этот господин.
Он был прав – Ида лишь снисходила до окружающих, но отделяла себя от них категорически; этого невозможно было не заметить. У всех на глазах она создавала и себя, и свою жизнь, и правила своей жизни, и все вокруг нее подчинялись этим правилам, и это происходило не из-за ее денег и не из-за роскоши, которой она была окружена, а из-за одной лишь ее воли быть такой, какою она себя являла.
Так, значит, это возможно?.. Возможно создать свой собственный мир, свои собственные правила, и если сделать это с уверенностью в своем на то праве, люди примут твои правила, и подчинятся им, и даже счастливы будут подчиниться!..
Так думала Полина, не отводя взгляда от Иды, и размышления эти наполняли все ее существо восторгом.
Когда шли из ресторана домой, она буквально выудила из мамы все, что та знала об Иде Рубинштейн.
– Ах, боже мой, да ведь я тебе уже объяснила: она эпатажна и экстравагантна! – Видно было, что маме не хочется говорить о таких опасных, с ее точки зрения, человеческих качествах. – И что еще о ней сказать? Ну, танец Саломеи она когда-то станцевала – сбрасывала с себя одно за другим семь покрывал и оставалась на сцене совершенно голая. Разумеется, это всех шокировало, церковь страшно возмущалась, все газеты о ней писали, и весь Петербург говорил.
– О ней и теперь пишут и говорят, – заметил папа. Поднялся ветер, и он повыше поднял воротник пальто. – Говорят, у нее при особняке под Парижем парк, в котором дорожки выложены мозаикой, и будто бы Бакст придумал в этот парк какие-то особенные лотки для растений, их каждую неделю переставляют, чтобы менять ландшафт.
Тут разговор прервался, потому что дождь хлынул как из ведра и всему семейству Самариных пришлось бежать домой бегом.
Но уже назавтра Полина отправилась в публичную библиотеку и прочитала все, что удалось достать об Иде Рубинштейн. Что там парк с мозаикой на дорожках! В особняке, где Ида принимала всю парижскую богему, висел золотой театральный занавес и были разложены на всеобщее обозрение пыточные инструменты из Сенегала, и самурайские мечи, и африканские ткани, а спальню ее охраняла пантера, которую иногда выводили к гостям.