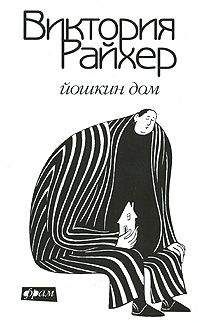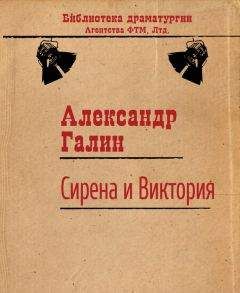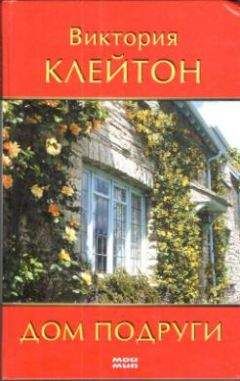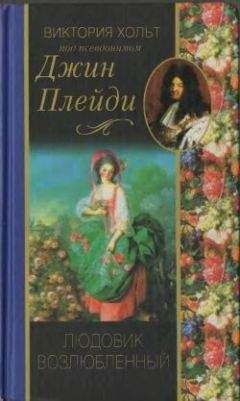Анна Берсенева - Вокзал Виктория
Полина и теперь, спустя почти десять лет, не понимала того массового недомыслия так же, как не понимала его в тридцать восьмом году, когда приехала из Парижа в Берлин. Даже ей, иностранке, тогда в течение одной недели стало ясно, к чему здесь дело идет и чем закончится. Так оно и вышло. А миллионам местных граждан ничего ясно не было. Они ликовали, рыдали от счастья жить в такой замечательной стране и гордились, гордились собой бесконечно! Странно, странно.
Но что же – та часть ее жизни окончена, и незачем теперь о ней думать. Теперь надо войти в кухню, из которой доносится деловитый вечерний гул, и познакомиться с людьми, бок о бок с которыми ей предстоит провести следующий отрезок своей жизни. А прежний – забыть. Так она делала всегда, и ни разу еще не пришлось ей жалеть о таком ритме движения по жизни.
Но все же многое, многое из прежнего то и дело всплывало у нее в памяти.
Глава 9
«Я – понятно. А вот другие – почему они захотели пойти на сцену?»
Эта мысль приходила Полине в голову каждый раз, когда она гримировалась перед спектаклем в большой гримерной театра «Одеон» среди таких же, как она, артисток «на выход». Первичные мотивы, ведущие человека на актерский путь, интересны ей были потому, что для нее профессия была вторична.
Она решила быть актрисой только из страха перед тем, что ее жизнь пройдет самым обыкновенным образом. Как у всех. Как у ее родителей: рано утром папа уходит на работу в какой-то департамент, названия которого Полина не знает и не интересуется знать, потому что работа эта для папы случайна, и хотя он дорожит ею как зеницей ока, но лишь потому, что за нее платят деньги, на которые можно жить, и вот он выполняет весь день какие-то обязанности мелкого клерка, возвращается поздно вечером усталый, а мама тем временем идет на маленький рынок на углу, стараясь подгадать к тому моменту, когда торговля уже сворачивается и все становится дешевле, потом готовит, гладит и штопает одежду, убирает квартиру, потому что позволить себе прислугу они не могут, вечером они обедают втроем, потом читают каждый свою книжку, потом родители обсуждают, что интересного произошло за день, а Полина, прислушиваясь краем уха к их разговору, не понимает, как можно считать интересным то, что они обсуждают… И так каждый день, пять раз в неделю, и в выходные примерно то же, только вместо работы поездка в Булонский лес на пикник, но и в пикнике нет ничего интересного, потому что заранее известно во всех подробностях, как он пройдет, и ни разу не случалось, чтобы он прошел как-нибудь иначе. Или в гости к знакомым, жизнь которых так же однообразна, но им так же не скучно проживать эту жизнь, как и Полининым родителям.
– У нас есть причины не скучать, – сказала мама, когда Полина спросила ее однажды о том, чего сама не могла ни понять, ни объяснить. – Наша молодость пришлась на такое бурное время, что… Оно ушибло нас, Полинька. Выбило из нас все силы. Такое напряжение не проходит бесследно – мы надорвались. Мы постарели сразу же, как только добрались до Франции. Мне сорок лет, а я чувствую себя… Нет, не старухой, конечно, нет-нет, но все-таки пожилой дамой, у которой все главное в жизни уже прошло, и слава богу. Я больше не хочу ничего яркого, необыкновенного, пусть даже и в положительном смысле. У меня нет на это сил.
Выслушав это объяснение, Полина пожала плечами. Не наяву – ей вовсе не хотелось обидеть маму, – а мысленно. Как можно радоваться, что лучшее в твоей жизни уже прошло, она не понимала. Вот хоть убей, не понимала! То есть, конечно, когда жгут твой дом и убивают соседей, и ты лишь чудом успеваешь бежать из деревни в Москву, и там всех, кто тебе близок не по крови уже, потому что близких по крови просто не осталось, но хотя бы по воспитанию, – убивают тоже… Конечно, после этого будешь чувствовать себя напуганным и опустошенным. Наверное, будешь; так Полина старалась думать. Но на самом-то деле, внутри себя, она в это не верила.
Опустошение – навсегда? И никаких желаний – тоже навсегда? И считать, что вот эта серенькая, как парижский дождик, жизнь – единственное счастье на все оставшееся тебе на земле время?.. Да ни за что!
Ее жизнь будет другою, это она решила твердо, еще когда училась в лицее. То есть это правильнее было назвать не решением, а просто знанием. Она – другая, ей не подходит однообразный цвет жизни, ей нужны яркие краски. Может быть, если бы она пережила то, что пережили родители, то была бы такая же, как они, но она – спасибо им – родилась уже здесь, в Париже, и натура ее проявляется так, как ей свойственно, а не так, как диктуют обстоятельства.
Но мало понимать, что ты хочешь яркой жизни, куда труднее понять, каким образом ее для себя добиться. Размышления об этом приводили в растерянность даже никогда и ни от чего не терявшуюся Полину. Ну вот что ей делать? Сбежать из дому в Марсель и, переодевшись в мужское, проситься юнгой на корабль, отплывающий куда-нибудь в Перу? Понятно же, что это глупость несусветная. Никто ее юнгой не возьмет, а если возьмет, то недолго ей удастся притворяться мужчиной, а если и удалось бы долго, то в жизни юнги нет ровным счетом ничего из того, о чем она мечтает. Просто драишь палубу и лазаешь по каким-то вантам, или реям, или брамселям, или как их там называют, а кругом, сколько глаз хватает, одна лишь вода, которая только в первые три дня кажется отличной от воды на парижской мостовой после дождя…
Точно так же не привлекала Полину жизнь охотников за экзотическими животными, и ошеломляющие полеты авиаторов не привлекали тоже…
«Может быть, я просто боюсь труда? – спрашивала она себя. И себе же по справедливости отвечала: – Нет. Я упорна и делать над собой усилие умею. Я боялась холодной воды, меня это злило, я решила избавиться от этого глупого страха – и избавилась, и плаваю теперь осенью, в ноябре, и у меня даже насморка не бывает. Но зависимость труда от чужих и глупых людей, вот чего я боюсь безусловно, вот чего для себя не хочу ни за что!»
Неизвестно, каким выбором закончились бы все эти размышления – до окончания лицея, который родители оплачивали полным напряжением всех семейных сил и средств, оставалось все меньше времени, – если бы не знакомство, ожидать которого было не то что совсем невозможно, но все же очень затруднительно.
– Лиза, Полинька, вы не представляете себе, кого я сегодня встретил!
Папу было не узнать. Во всяком случае, Полина его таким никогда не видела: глаза беспечно сверкают, на губах пляшет улыбка, кончики усов лихо закручены, и от всего этого кажется, что он помолодел лет на двадцать.
– Кого, Андрюша?
В мамином голосе слышался почти что испуг; Полина почувствовала его так же явственно, как папину радость. От любых потрясений, даже прекрасных, мама не ожидала хорошего.