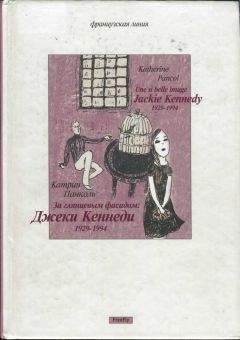Катрин Панколь - Черепаший вальс
Гудок, второй, третий, четвертый… Она уже собиралась отключиться, как вдруг услышала голос Милены, ее легкий провинциальный акцент, от которого она тщетно пыталась избавиться.
— Алло?
— Милена Корбье?
— Да.
— Это Гортензия Кортес.
— Гортензия! Дорогая моя, любимая, зайчик мой ненаглядный… Как я счастлива тебя слышать! О! Я так по вам скучала, карамелечки мои!
— Милена Корбье, анонимщица?
Гортензия услышала в трубке сдавленный всхлип, потом молчание.
— Анонимщица Милена Корбье, которая пишет двум сиротам тошнотворно сладенькие письма и внушает им, будто их отец жив, хотя он давно и безнадежно мертв?
Снова тот же всхлип. Дважды.
— Милена Корбье, которая до того озверела от скуки в Китае, что не знает, какую еще извращенную игру придумать? Милена Корбье, которая создала семью по переписке?
Всхлип перешел в сдавленное рыдание.
— Ты прекратишь посылать свои мерзостные письма, или я тебя сдам полициям всех стран мира, расскажу обо всех твоих делишках, о подделке документов, о фальшивых подписях и сфабрикованных счетах. Ты поняла меня, Милена Корбье из Лон-ле-Сонье?
— Но я… я никогда… — выдавила Милена. Она уже ревела в голос.
— Ты врунья и манипуляторша. И сама это знаешь. Так что… Просто скажи мне: «Да, я поняла, я больше не буду писать эти подлые письма», — и тем самым спасешь свою шкуру.
— Я никогда…
— То есть ты хочешь, чтобы я привела свои угрозы в исполнение? Попросила Марселя Гробза заткнуть тебе пасть?
Милена на мгновение замолчала, потом послушно повторила:
— Да, я поняла…
— И последний совет, Милена Корбье: нет смысла звонить и жаловаться Марселю Гробзу. Я все ему рассказала, и он лично готов повесить тебе на хвост всех легавых Земли!
Последний всхлип, рыдания. Вероломная лгунья заткнулась, не пытаясь возражать. Гортензия подождала и, убедившись, что враг наголову разбит, отключилась и бросила ненужный мобильник на соседний матрас, рядом с тюбиком крема для загара и солнечными очками «Фенди».
Августовская жара просачивалась сквозь закрытые ставни. Тяжелая, неподвижная жара, которая ослабевала лишь ночью, лишь на несколько часов, вновь наваливаясь с первыми лучами рассвета. Было всего десять утра, но солнце уже палило, как из огнемета, по белым металлическим ставням на кухне.
— Не понимаю, что за погода, — вздыхала Ирис, развалившись в кресле. — Два дня назад хоть отопление включай, а сейчас хочется залезть в холодильник.
Жозефина пробормотала: «Климат меняется…»: выдумывать что-то пооригинальнее было лень. Невыносимая жара мешала тщательно выбирать слова, не было сил старательно оттачивать фразу, точно и изящно выражать свои мысли, и она изъяснялась штампами вроде «климат меняется, люди меняются, мужчины уже не те, женщины уже не те, экология уже не та, животные вымирают…». Зной отуплял их, выматывал, заставлял, как двух зверьков, укрываться в самом прохладном месте квартиры, где сестры делили на двоих поток воздуха от вентилятора и капельки косметической воды «Кодали». Прыскались водой и поворачивали красные распаренные лица к гудящим лопастям.
— Два раза звонил Лука, — сказала Ирис, выгибаясь навстречу прохладе. — Очень хотел с тобой поговорить. Я сказала, ты перезвонишь…
— Вот зараза! Забыла отправить ему ключ! Нужно сейчас же это сделать…
Она лениво поднялась, пошла искать конверт с маркой, надписала адрес Луки и положила ключ в конверт.
— И ни слова ему не напишешь? Больно суховатая отставка-то.
— Ох, где моя голова? — вздохнула Жозефина. — Пора уже проснуться!
— Дерзай! — улыбнулась Ирис.
Жозефина взяла лист бумаги и застыла, не зная, что написать.
— Скажи, что едешь на каникулы со мной в Довиль. Он оставит тебя в покое.
Жозефина написала: «Лука, вот ваши ключи. Я уезжаю в Довиль к сестре. Желаю приятно провести остаток лета. Жозефина».
— Вот, — сказала она, заклеивая конверт. — Скатертью дорога.
— Зря ты так! Девочки говорят, он очень красивый мужчина…
— Может быть, да только я больше не хочу его видеть.
Уши ее загорелись: она договорила про себя «с тех пор, как люблю Филиппа». Потому что я все еще люблю его, хоть он и не подает признаков жизни. Во мне живет какая-то непонятная уверенность. Она положила письмо в сумку и мысленно попрощалась с Лукой.
— Хорошо, — вздохнула Ирис, положив ноги на спинку соседнего стула.
— Ммм… — промычала Жозефина, передвигаясь поближе к вентилятору.
— Прочесть тебе твой гороскоп?
— Ммммда…
— Ну вот… «Основная тенденция: вас ожидает буря событий, начиная с пятнадцатого августа…»
— Это сегодня, — заметила Жозефина, поворачиваясь к потоку прохладного воздуха мокрым от пота затылком.
— «…до конца месяца. Держитесь, это может быть тяжело и не пройдет для вас безболезненно. Любовь: потухшее пламя вспыхнет с новой силой. Здоровье: возможно учащенное сердцебиение».
— Видишь, намечается хоть какой-то сдвиг, — пробормотала Жозефина, заранее устав от будущего бурного круговорота событий. — А у тебя что?
— Сейчас поглядим: «Основная тенденция: вы столкнетесь с труднопреодолимым препятствием. Используйте свое обаяние и дипломатию. Если вы решите на насилие ответить насилием, вы проиграете. Любовь: ожидается столкновение интересов, только от вас зависит, выиграете вы или проиграете. Все будет висеть на волоске…» Брр! Неутешительно!
— А что про здоровье?
— Я никогда не читаю про здоровье! — сказала Ирис, закрыв газету и сложив ее вдвое, чтобы обмахиваться как веером. — Хочется быть пингвином и кататься по ледяным торосам…
— Лучше поехать в Довиль и плескаться в водичке…
— Не говори мне о Довиле! По радио передавали, что там была жуткая буря сегодня ночью…
Она лениво протянула руку к радио, чтобы послушать метеосводку, но там как раз была рекламная пауза. Она убавила звук.
— Хоть глотнем свежего воздуха… не могу больше.
— Езжай, если хочешь, я дам тебе ключи. А сама буду сидеть здесь.
Завтра он приедет. Если, конечно, сдержит слово… От него по-прежнему никаких известий. Я обозвала его лжецом! Надо учиться… она опустила глаза на гороскоп… «использовать свое обаяние и дипломатию». Буду извиваться ужом, притворяться робкой и стыдливой, как новая жена в гареме. А почему нет? Она с ужасом поняла, что жаждет повиноваться ему. Ни один мужчина не вызывал у меня таких чувств. Может, это признак настоящей любви? Когда больше не хочется ломать комедию, лишь с открытой душой отдаться этому человеку, шепча: «Я люблю вас, делайте со мной все что хотите». Странно, что разлука только усиливает это чувство. Или он заранее рассчитывал на ее капитуляцию? Оставлял гордую гневную женщину, а найдет покорную возлюбленную. Мне хочется прижаться к нему, вручить ему свою жизнь, я не буду спорить, я лишь тихо прошепчу: «Вы — мой учитель». Эти слова он хотел услышать от меня накануне отъезда. Я не сумела их выговорить. Но спустя две недели мучительной разлуки они сами готовы сорваться с моих губ. Он приедет завтра, он приедет завтра… Он сказал: «две недели». Она услышала на улице знакомый шум — убирали мусор, потом проехала поливальная машина. Этот звук — клик, клик — как-то освежил ее. Этот звук — клик, клик — таил в себе надежду. Консьержка переставляла горшки с цветами, волоча их по земле. Она вспомнила о розовых клумбах в Довиле. Мелькнуло сожаление о потерянном рае, но она тут же отмахнулась. Эрве удалось вытеснить Филиппа. И Жабу, кстати. Она разрушила иллюзии Рауля, признавшись ему, что влюблена в другого. Он шлепнул платиновой картой о стол и уверенно произнес: «Ничего страшного, мое время придет». «Вы и впрямь никогда ни в чем не сомневаетесь, Рауль!» — «Я всегда достигаю намеченной цели. Иногда на это уходит больше времени, чем было предусмотрено, потому что я все же не волшебник, но никогда, никогда я еще не признавал себя побежденным!» Он выпрямился, гордый и пылкий, как закутанный в тогу римский император по возвращении из победоносного похода. Ей понравился его воинственный тон. Ей ужасно нравились сильные, уверенные, суровые мужчины. Они рождают во мне приятную дрожь, мое тело раскрывается навстречу им, меня наполняет восхитительное чувство покорности, подвластности. Люблю в мужчинах грубую силу. Женщины редко демонстрируют чувства такого рода — ведь в этом не так-то легко признаться. Она совершенно другими глазами взглянула на Жабу, по губам пробежала легкая улыбка. Не такой уж он и урод, в конце концов. И глаза блестят хорошо, с вызовом. Но ведь есть Эрве. Несгибаемый Эрве. Ни слова, ни письма за две недели. Она задрожала, руками приподняла тяжелые пряди волос, чтобы скрыть замешательство.