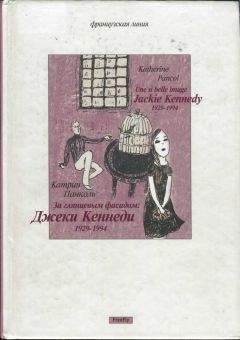Катрин Панколь - Черепаший вальс
— Ты делаешь как раз то, чего делать не нужно. Ты впускаешь ее в свою жизнь и этим даешь ей силу. Забудь ее, говорю тебе! Только сильный может забыть.
— Не могу. Меня это душит, давит, мне тяжко!
— Повторяй за мной, мой волчище: я не боюсь Анриетту, я уничтожу ее своим презрением.
Марсель упрямо мотнул головой.
— Марсель…
— Я перекрою Зубочистке кислород! Заберу у нее квартиру, посажу ее на голодный паек…
— Нет, нет! Это приведет ее в ярость, и она вновь захочет нам нагадить!
— Слушай, я же не могу…
— Послушай меня, Марсель. Повторяй: я не боюсь Анриетту, я уничтожу ее своим презрением… Давай, мой волчище! Просто чтобы сделать мне приятное… Чтобы подняться со мной на воздушном шаре.
Марсель упрямо молчал, хватая песок горстями.
Жозиана повторила тихо, но твердо:
— Я не боюсь Анриетту, я уничтожу ее своим презрением.
Марсель сжимал зубы и смотрел на море так, словно хотел разорвать его на клочки.
— Волчок? Ты язык проглотил?
— Ты напрасно стараешься.
— Я не боюсь Анриетту, я уничтожу ее своим презрением. Попробуй! Вот увидишь, сразу станет легко!
— Нет, никогда! Не надо мне такого облегчения!
— Ты изойдешь ядом от злости!
— Зато отравлю ее!
И тут взметнулся звонкий голосок Младшего:
— Ибоюсь Ниетту, нитозюё сяим пизенем!
Они уставились на отпрыска, красного как рак, и раскрыли рты.
— Он заговорил! Он заговорил, он составил целую фразу с подлежащим, сказуемым и дополнением! — воскликнула Жозиана.
— Ибоюсь Ниетту, нитозюё сяим пизенем! — повторил Младший, радуясь тому, какой эффект произвели его слова на родителей: их лица наконец прояснились и засияли.
— Ох! Любимые вы мои! Мои вы любимые! — вскричал Марсель, обрушиваясь всей тушей на жену и сына и чуть не раздавив их. — Что бы я без вас делал?
Начался август. Жарко, многие магазины закрылись. Нужно четверть часа идти, чтобы купить хлеба, двадцать минут, чтобы найти открытую мясную лавку, полчаса, чтобы дойти до овощной палатки, а назад возвращаешься с полными сумками, по жаре, стараясь держаться в тени неподвижных, застывших от влажного городского зноя деревьев. Жозефина не вылезала из комнаты и работала. Гортензия уехала в Хорватию, Зоэ в Ирландию, Ирис, лежа на диване под вентилятором, хваталась то за пульт, то за мобильник, набирала какие-то номера, но ей не отвечали. Париж опустел. Оставался только верный Жаба, пылкий и ретивый, он звонил ей каждый вечер и предлагал поужинать на террасе. Ирис ссылалась на мигрень и уклончиво отвечала: «Ну, может быть, завтра… Если я буду лучше себя чувствовать». Он настаивал, она повторяла: «Ах, я так устала» — и более мягко добавляла «Рауль», отчего Жаба тут же таял. Он квакал: «Ну, до завтра, красавица моя» — и вешал трубку, осчастливленный тем, что услышал свое имя в устах Ирис Дюпен. Есть прогресс, есть прогресс, говорил он себе, проворными пальцами отлепляя от ног пропотевшие брюки. Красотка хитра, она заставляет себя упрашивать, это высший класс, она присматривается, упирается, не дается так просто, я, конечно, не Аполлон, а она делает вид, что ей наплевать на мои деньги, но сама думает, высчитывает, и длина поводка с каждым днем сокращается, она все ближе. Она приближается неспешно, что придает еще больше прелести процессу завоевания. Я рано или поздно затащу ее в постель и дотащу потом до мэрии!
Ирис совершенно не хотелось повторять ужин в «Ритце»: она смотрела на Жабу, пытаясь не замечать, как он чавкает и вытирает пальцы об скатерть, как старается незаметно отлепить штаны от потного тела. Он говорил с набитым ртом, плевался, сальными губами имитировал подобие поцелуя так, что ее отбрасывало к спинке стула, и игриво поглядывал на нее: «Ну что, дело в шляпе?» Он не произнес этих слов, но она могла прочитать их в его блестящих упрямых глазках.
— Вы никогда ни в чем не сомневаетесь, Рауль?
— Никогда, красавица моя. Сомнения — для слабых, а слабые в этом ничтожнейшем из миров…
И он расплющил ладонью хлебную крошку в плоскую лепешечку, потом раскатал ее в колбаску, сделал колечко и положил перед ее тарелкой.
— Вы в глубине души романтичны, хоть на вид, скажем так, грубоваты…
— Это все ты. Ты меня вдохновляешь. Не хочешь перейти на ты? А то у меня впечатление, что я ужинаю с собственной бабушкой! И честно говоря, бремя лет не вызывает у меня восторга!
А ведь ты, сам того не ведая, в точку попал, я-то скоро вступлю в возраст, когда пора приобретать вставную челюсть, и ты меня так же расплющишь в лепешку, выкинешь на помойку и найдешь себе девицу помоложе.
Она не решалась отвергнуть его окончательно. Никаких известий от Эрве. Она представляла себе, как он вдыхает свежий прохладный воздух, накинув на плечи свитер, среди дроков и песчаных дюн, как катается на лодке с сыновьями и играет в бадминтон с дочкой, как прогуливается с женой. Стройный, элегантный, челку растрепал морской бриз, на губах загадочная улыбка. Он умеет быть обаятельным, этот человек, который хочет казаться суровым. Изображая неприступность, он становится неотразимым. Жаба рядом с ним — просто прыщ, но… Он крепко стоит на ногах, как скала, звенит монетами и жаждет окольцевать свой безымянный палец. Колечко из хлеба тому доказательство. То есть он не просто хочет меня добавить в качестве трофея к своей коллекции, у него серьезные намерения…
Она подумала и сказала себе, что пока рано принимать решение.
Взяла пульт, поискала фильм. Иногда она окликала: «Жозефина, Жозефина!» — но та не отвечала, видимо, зарылась в свои исследования. Вот тоже синий чулок! Они никогда не говорили о Филиппе. Даже не упоминали его имени. Ирис как-то попыталась однажды вечером, когда они ужинали макаронами с сыром на кухне…
— Что слышно про моего мужа? — спросила она, занося вилку над тарелкой. Ситуация ее забавляла.
Жозефина покраснела и сказала: «Ничего не слышно».
— Неудивительно! Таких, как ты, вокруг полно! Что, грустно тебе?
— Нет. С какой стати мне грустить? Мы с ним просто хорошо ладили, вот и все. А ты раздула из этого целую историю…
— Глупости! Я-то вижу, с какой легкостью он меня бросил, ни письма, ни телефонного звонка, потому и предполагаю, что он человек поверхностный и легкомысленный. Видимо, у него кризис пятидесятилетия. Порхает по жизни… Но ведь вы были очень близки, правда?
— Только из-за детей…
Жозефина оттолкнула тарелку с макаронами.
— Ты не хочешь больше?
— Жарко.
— Но как ты думаешь, он любил меня?
— Да, Ирис. Он любил тебя, он был от тебя без ума и, по-моему, до сих пор…