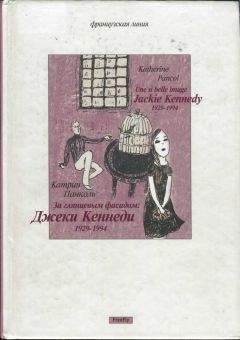Катрин Панколь - Черепаший вальс
— И не поговоришь с Филиппом. Вы поссорились?
— Нет. Но я предпочитаю с ним сейчас не разговаривать. Сделай все сама, вот тебе отличный повод доказать, что ты уже не ребенок.
— Договорились, — ответила Зоэ.
Жозефина протянула ей руку, чтобы скрепить договор. Зоэ замешкалась.
— Ты не хочешь пожать мне руку? — удивилась Жозефина.
— Да не в этом дело, — смущенно ответила Зоэ.
— Зоэ! Что с тобой? Скажи. Ты все можешь мне сказать…
Зоэ отвернулась. Жозефина вообразила самое худшее: там порезы, она пыталась вскрыть себе вены, хотела свести счеты с жизнью из-за того, что отец погиб в пасти крокодила.
— Зоэ! Покажи руки!
— Не хочу. Не твое дело.
Жозефина вырвала ее руки из карманов джинсов. Оглядела и облегченно расхохоталась. Под большим пальцем на левой руке Гаэтан написал черной шариковой ручкой большими буквами: ГАЭТАН ЛЮБИТ ЗОЭ И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ.
— Как мило! Почему ты это скрываешь?
— Это никого не касается…
— Наоборот, надо показывать… скоро сотрется.
— Нет. Я решила больше не мыться в тех местах, где он написал.
— А он еще где-то написал?
— Ну конечно…
Она показала запястье левой руки, правую щиколотку и живот.
— Какие вы оба лапочки! — засмеялась Жозефина.
— Мам, хватит, это суперсерьезно! Когда я говорю о нем, у меня сердце поет.
— Я знаю, дорогая. Нет ничего лучше любви, ты как будто танцуешь вальс…
Она пожалела, что произнесла эти слова. Тут же вспомнился Филипп, который обнял ее в комнате отеля, закружил, раз-два-три, раз-два-три, вы божественно танцуете, мадемуазель, а вы живете с родителями? Уложил на кровать, навалился на нее, медленно поцеловал в шею, поднялся к губам, целовал их долго, неспешно… Вы божественно целуетесь, мадемуазель… Душа отозвалась раздирающей болью. Захотелось погрузиться в него целиком, утонуть в нем, умереть в нем, вынырнуть, наполнившись им, чувствуя его запах на своем теле, чувствуя, как он входит в нее, он здесь, он здесь, я могу коснуться его пальцами… Она сдержала стон и наклонилась к Дю Геклену, чтобы Зоэ не заметила ее слез.
Ирис услышала телефон и не узнала звонок Эрве. Открыла один глаз, взглянула на часы. Десять утра. Она приняла две таблетки стилнокса перед сном. Во рту было мерзко, словно она наелась гипса. Ирис подошла к телефону — какой-то мужчина, голос властный и сильный.
— Ирис? Это Ирис Дюпен? — пролаял голос.
— Мда-а, — промычала она, отодвигая от уха трубку.
— Это я, Рауль!
Жаба! Жаба в десять утра! Она смутно припомнила, что он приглашал ее поужинать на прошлой неделе и что она сказала… А что она, кстати, сказала? Дело было вечером, она немного выпила и разговор помнила смутно.
— Я насчет нашего ужина в «Ритце». Вы не забыли?
Значит, она сказала «да»!
— Н-нет… — неуверенно произнесла она.
— Значит, в пятницу, в восемь тридцать. Я заказал столик на мое имя.
А что за имя-то? Филипп всегда называл его Жабой, но должна же у него быть какая-то фамилия?
— Вы одобряете мой выбор, или вы бы предпочли какое-нибудь более… ну как сказать… укромное местечко?
— Нет, нет, очень хорошо.
— Я подумал, для первой встречи идеально подходит. Еда превосходная, безупречный сервис и обстановка очень приятная.
Похоже, он зачитывает ей вслух путеводитель «Мишлен»! Ирис откинулась на подушку. Как она могла до такого дойти? Надо кончать с таблетками. Надо прекращать пить. По вечерам больно тоскливо. Время запоздалых сожалений и тяжелой душной тоски. Не осталось ни капельки надежды. Единственным способом победить страх, заглушить тоненький внутренний голосок, который вдалбливал в ее сознание жестокую реальность: «Ты стареешь, ты одинока, а время летит!» — оказывался бокал вина. Или два. Или три. Она смотрела на пустые бутылки, стоящие потешным строем возле мусорного ведра на кухне, пересчитывала, приходила в ужас. Завтра брошу. С завтрашнего дня пью только чистую воду. Ну, или один бокальчик на ночь. Просто для храбрости, только один!
— Я уже мечтаю об этом ужине. В конце недели можно расслабиться, назавтра не надо вставать ни свет ни заря, так что можем спокойно поговорить.
Но о чем мне с ним разговаривать, ужаснулась Ирис, зачем я согласилась?
— Ты расскажешь мне про свои беды и невзгоды, а я, обещаю, помогу.
Она выпрямилась, оскорбленная: с какой стати он ей «тыкает»?
— Красивая женщина не создана для одиночества. Вот увидишь… Я, может, некстати?
— Я вообще-то спала, — проворчала Ирис сонным голосом.
— Ну, спи, моя красавица. И до пятницы!
Ирис отключилась. Ей было тошно до невозможности. Боже мой, подумала она, неужели я пала так низко, что Жаба думает заполучить меня?
Она укрылась с головой. Жаба пригласил ее на ужин. Это какой-то апофеоз одиночества и нищеты. На глаза навернулись слезы, и она принялась громко всхлипывать. Хотелось плакать и плакать без конца, выплакаться до дна и раствориться в океане соленой воды. Моя жизнь всегда была слишком легкой. Ничему меня не научила, а теперь отыгрывается и унижает меня. И тут я одной ногой шагнула в ад. Ах! Если бы я когда-нибудь познала горе, насколько больше бы ценила свое счастье!
Накануне, смывая косметику, она обнаружила новые морщинки на шее.
Она зарыдала еще пуще. Кто меня теперь захочет? Скоро останется только Жаба, вроде спасательного круга… Абсолютно необходимо, чтобы Эрве наконец решился. Надо подтолкнуть его к объяснению.
У них была назначена встреча в шесть часов вечера в баре на площади Мадлен. Завтра он должен уехать, чтобы заселить свое семейство на Бель-Иль, а потом… Потом он вернется и достанется ей целиком, только ей одной! Ни жены, ни детей, ни уикендов в кругу семьи. Они недавно ходили обедать в парк Сен-Клу, гуляли по аллеям, пошел мелкий тонкий дождик, они спрятались под дерево, она смеялась, встряхивала длинными распущенными волосами, запрокидывала голову, подставляла губы… Он не поцеловал ее. Что за игру он ведет? Уже три месяца они видятся почти каждый день!
Она пришла на свидание вовремя. Эрве не выносил ни малейшего опоздания. В самом начале она из кокетства заставляла его подождать десять-пятнадцать минут, но потом ей приходилось прилагать титанические усилия, чтобы к нему вернулось хорошее настроение. Он дулся; она насмешливо спрашивала: «О! Эрве, что значат десять несчастных минуток по сравнению с вечностью?» Склонялась к нему, касаясь своими роскошными волосами его щеки, а он оскорбленно отстранялся. «Я не неврастеник, я просто люблю точность, люблю порядок. Когда я возвращаюсь домой, жена должна подать мне стакан виски с тремя кубиками льда, а дети — рассказать, как прошел день. Этот час я посвящаю им, и мне хочется использовать его в полной мере. Потом мы ужинаем в девять часов, и они ложатся спать. В мире сейчас творятся такие безобразия только потому, что больше нет порядка. Я хочу вернуть миру порядок». Выслушав эту длинную тираду, она поглядела на него с улыбкой, но быстро поняла, что он не шутит.