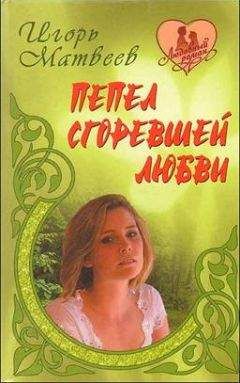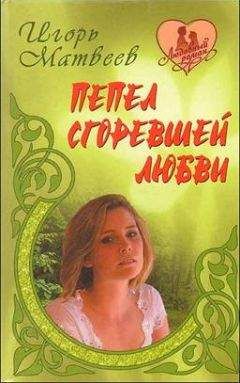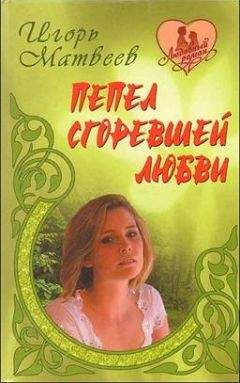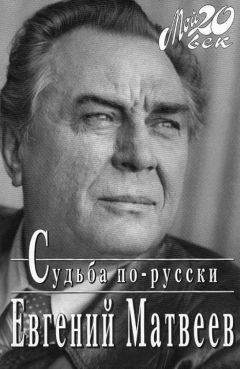Игорь Матвеев - Прощай Багдад
Лена вышла на улицу. В направлении пожара бежали люди. Она пошла вслед за ними. Полыхал многоквартирный дом, на первом этаже которого до войны размещались кафе и парфюмерный магазин. Часть здания была разрушена; стена фасада местами обрушилась, и в открывшихся прямоугольниках квартир виднелись сугубо мирные вещи: холодильники, газовые плиты, шкафы, диваны и кресла. Кое-где мебель горела. Из-под обломков раздавались крики раненых.
Пожарные в брезентовых куртках начали торопливо разворачивать шланги, санитары с носилками наперевес бежали к полуразрушенному зданию. Вокруг места происшествия собиралась толпа: кто-то искренне хотел помочь, кто-то явился просто поглазеть — любопытство людей неистребимо даже во время войны.
Через несколько минут извлекли первые трупы: девочки лет двенадцати, пожилой женщины, полуголого старика. Тела складывали на асфальт у машин «скорой помощи». Из уцелевшего подъезда санитар вывел человека с окровавленной головой.
— Мадам Аззави! — кто-то робко тронул ее за руку.
Лена обернулась и какое-то время не могла припомнить, откуда знает эту бледную молодую женщину в неярком платье и черном платке. Именно этот платок и помог ей вспомнить.
— Худа? Вы?
— Я…
За время своего непродолжительного пребывания в Арабской службе очистки воды Лена так и не установила ни с кем из ее сотрудников никаких отношений, кроме сугубо деловых. Худу, с которой ей приходилось общаться по работе чаще, чем с другими, она еще как-то помнила, остальные уже стерлись в ее памяти.
— Как вы здесь оказались? Я никогда не встречала вас в Мансуре раньше.
— Здесь живет мой двоюродный брат. Он недавно вернулся с фронта — ему дали отпуск по ранению, — пояснила девушка.
Некоторое время она молчала, потом неуверенно проговорила:
— Знаете, мадам Аззави, когда вы ушли… мне было очень жаль, честное слово. С вами поступили несправедливо.
Не я ушла, а меня ушли, захотелось поправить Лене, но она знала, что не сможет правильно передать это выражение на арабском языке. Она почувствовала, что ее собеседница говорит искренне, и прониклась к ней симпатией.
— Спасибо, Худа.
— Ваш муж воюет?
— Он… он пропал без вести. От него было только одно письмо, да и то еще в декабре. Он писал, что их часть стоит под Абаданом. Потом — ничего.
Она несколько раз звонила родителям Ахмеда, но и те ничего не знали. Они лишь сообщили, что получили от сына письмо где-то в декабре — примерно в то же время, что и Лена. Тогда она выяснила номер нужного телефона при Министерстве обороны и с трудом дозвонилась: линия была постоянно занята.
— Вам придется подождать, мы завалены подобными запросами, — устало проговорил невидимый собеседник. — Ахмед Аззави, вы говорите? Я записываю. Откуда он призывался? Хорошо, перезвоните через неделю.
Через неделю все тот же голос сообщил ей, что в списках погибших Ахмед Аззави не значится. Лена с облегчением перевела дыхание. Но это чувство владело ей не более пары секунд, потому что в следующий момент голос произнес:
— Двадцать второго февраля он пропал без вести.
— Что… что это значит? — ее голос дрогнул.
— Только то, что теперь его нет и в списках живых, мадам Аззави, — чуть мягче проговорил ее собеседник. — Он мог быть взят в плен, мог быть ранен и подобран на поле боя без сознания и, возможно, документов при нем не оказалось. Так что не спешите с выводами. Время все покажет.
Лена повесила трубку. Так она стала не вдовой, не женой.
— Сейчас все воюют, — вздохнула Худа. — У нас тоже забрали и Али, и Саддама.
Лена не помнила ни того, ни другого, но из вежливости кивнула.
— А вы, вы работаете, мадам Аззави?
Она отрицательно покачала головой.
— Хорошо, что я встретила вас, — продолжала Худа. — Я недавно вспоминала о вас. Знаете, моя сестра работает в главном военном госпитале Багдада. Ну, в том, что недавно переименовали в Медицинский центр Саддама Хусейна. Сейчас всех мужчин-санитаров забрали на фронт, и там нужны женщины. Хотите, я поговорю с ней?
Лена кивнула. Сбережения Ахмеда заканчивались. Дважды к ней заезжал старший брат Ахмеда, Тарик, с которым, из всех родных мужа, у Лены сложились наиболее дружеские отношения. Он оставил ей небольшую сумму, потом еще одну. Но вечно так продолжаться не могло.
Через несколько дней Худа позвонила ей и сообщила, что она может выходить на работу.
27 февраля 1981 года. Багдад
Салах Бахтияр бросил на поднос окровавленный скальпель и сорвал с лица марлевую повязку.
— Зашивайте, — коротко произнес он и вышел из операционной.
В коридоре он опустился на видавший виды продавленный кожаный диван и закурил. Такого тяжелого случая в его двадцатилетней практике еще не было и, как он полагал, больше не будет — по той простой причине, что шансы выжить с подобным ранением равны нулю. А то, что этот бедняга все же выжил, означало только, что милосердный Аллах по каким-то своим причинам решил задержать его на этом свете. Но разве это можно назвать жизнью? Ампутированы обе ноги, раздроблен таз, который он, Салах, был вынужден, как мозаику, буквально складывать из осколков костей, повреждены многие внутренние органы, огромная потеря крови… В довершение ко всему, один зазубренный осколок снизу вверх разорвал по диагонали лицо и засел в височной кости черепа, и как такое ранение повлияет на функции мозга, покажет только время.
Дверь операционной открылась, и оттуда вышел, на ходу снимая резиновые перчатки, ассистент Бахтияра Амаль Сауд.
— Садитесь, коллега, — Салах похлопал ладонью по потертой коже дивана. — Сигарету?
— Благодарю, доктор Бахтияр, — Сауд покачал головой и устало опустился рядом. — Я бы с удовольствием выпил чашечку кофе.
Некоторое время оба молчали.
— Знаете, Амаль, — начал Бахтияр, стряхивая пепел прямо на пол, — я все думаю: за те три часа, что мы проводили эту операцию, которая почти наверняка должна была окончиться смертью раненого, мы могли бы успешно прооперировать четыре или пять человек. И они могли потом если не вернуться на фронт, то, по крайней мере, жить нормальной жизнью еще долгие годы. А так кто-то из них, не получив своевременной хирургической помощи, умер. Вот я и спрашиваю себя: имели ли мы право пойти на эту… почти авантюру? На одной чаше весов — почти верная смерть одного человека, на другой — жизнь нескольких других. Но даже если этот бедняга и выживет — разве можно будет потом назвать жизнью его существование? Он до конца останется, как это называют американцы, «овощем». Не говоря уж о том, что станет огромной обузой для своих родных и близких… Ну, что вы скажете?