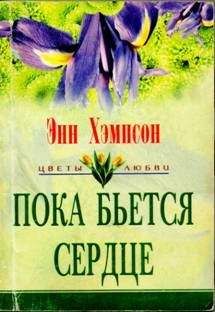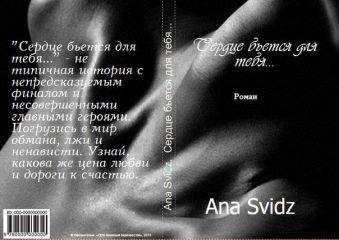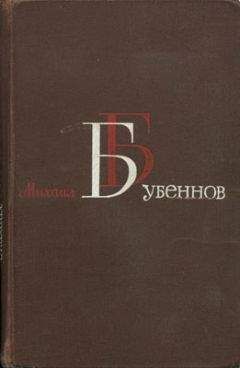Вулканы, любовь и прочие бедствия - Бьёрнсдоттир Сигридур Хагалин
Салка сидит у окна гостиной и рисует пальцем по пыли на подоконнике. Я вздыхаю и беру тряпку, чтобы пройтись ею в гостиной — в очередной раз.
— Мне хотится на улицу поиграть, — просится Салка.
— Хочется, — поправляю я. — Ты же знаешь, что нельзя. Там воздух такой грязный, для астматиков это вредно. У тебя легкие уязвимые.
Она недовольно смотрит на меня из-под копны темных волос, нижняя губа выгибается подковкой:
— Моим легким скучно.
— Хочешь кого-нибудь пригласить к себе поиграть? Позвони Мауни. Или Хюльде.
— Нет. Извержения — это скучно!
Меня передергивает, как будто она меня пнула.
— Сердце мое, почему ты так говоришь?
— От них все становится такое черное и некрасивое, — пристыженно бормочет она. — И ни выйти поиграть, ничего.
Я сажусь на пол рядом с ней и глажу ее по волосам.
— Знаешь, может, с извержениями и трудновато жить, пока они идут, но без них нас бы здесь не было. Все на Земле возникло благодаря деятельности вулканов. Они давным-давно создали сушу, а Исландия до сих пор продолжает ими создаваться. И мы здесь благодаря им, наши дома и улицы, все-все сделано из материалов и веществ, оставшихся от древних извержений. И даже сама атмосфера вокруг Земли, без которой жизни бы не было.
Она водит пальцем по подоконнику и разглядывает черную пыль на его кончике.
— Мама, а это из того подводного вулкана?
— Да, это пепел извержения Кедлингарбаус.
— Значит, оно пришло к нам прямо в гостиную?
— Можно сказать и так.
— Но оно же все портит!
— Пока вулканы извергаются, они вообще много чего портят, но извержения также создают новую землю, новые страны. И уничтожают, и творят новое. Поэтому они мне так интересны.
— Но, мамочка, ты-то у нас немного странная, — произносит Салка, и мы обе разражаемся смехом. Она видит возможность для маневра: — Мама, а почему мне нельзя кошку? С ней мне не было бы так скучно.
— Слушай, милочка, — говорю я, ероша ей волосы, — не начинай. У тебя же аллергия, забыла? Пойдем лучше печенье печь.
Она сияет от счастья, а мне становится стыдно, что с тех пор, как началось извержение, я совсем забросила ее. Даю ей разбивать яйца, взвешивать сахар и отмерять масло, сама растапливаю шоколад и слежу за миксером и духовкой, и мы совсем забываемся за выпечкой, пока не приходит муж и не протягивает мой телефон.
— Гудрун Ольга. Твоя мама, — добавляет он, словно мне нужно напоминать, кто это.
Я беру телефон и выхожу из кухни; не припомню, чтобы она мне когда-нибудь звонила; ее хриплый голос — чужой, низкий, запинающийся; даю ей выговориться.
— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваю я, точно недоумок. Она фыркает. — Хочешь, приеду?
— Нет-нет, не надо. До выходных ничего не произойдет, просто врач вчера позвонил и поставил меня в известность. Не стоит впадать в истерику.
— Ну, если что-нибудь понадобится, дай знать. И я мигом приеду.
Я отключаю связь и опускаюсь на первый попавшийся стул.
— Что стряслось? — спрашивает муж.
— У нее рак, — отвечаю я. — В легких и, насколько я поняла, везде. Она говорит, что ей недолго осталось.
— А ты к ней поедешь?
— Нет.
— Анночка! Она же очень больна, у нее потрясение, съезди к ней!
— Она не хочет.
— Поедем вместе.
Я мотаю головой. Неподвижно сижу и смотрю на телефон, на ее имя: Гудрун Ольга, а потом закрываю лицо руками.
— Она меня не хочет видеть, понимаешь? Даже сейчас, когда сама при смерти, — выговариваю я и разражаюсь плачем, всхлипывая как дурочка.
Он опускается на колени рядом со мной и обнимает.
— Любимая, — шепчет он. — Душа моя. Мне так жаль.
Я позволяю ему обнимать меня и рыдаю у него на плече. Не от горя и не от жалости к маме, а от голого самосожаления. Я оплакиваю саму себя: что мой папа умер, а сейчас теряю и маму, пусть она никогда и не принадлежала мне, пусть не удалось сделать так, чтобы она меня полюбила. Плачу об этом, а тем временем Салкино печенье с шоколадной крошкой подгорает в духовке.
Пояснительная статья III
Ты так плакала, а я помог тебе проблеваться
Со своим мужем я познакомилась всего через несколько недель после того, как папа скоропостижно скончался во сне, — пока мое горе было еще сырым и свежим и меня каждый день рвало, из одного чувства страха. Я как будто все время забывала, что папы больше нет, и каждый раз, когда вспоминала это, мой желудок выворачивался наизнанку и возвращал содержимое. Обычно — кофе: проглотить что-то еще было невозможно.
Я снова начала ходить на лекции в университете, но все пропускала мимо ушей, просто смотрела в потолок и ждала лишь одного: когда можно будет выйти покурить, выпить еще одну чашку кофе, пойти домой и дождаться, пока печаль ослабеет. Это казалось самым разумным: я прочитала о скорби как о любом другом заболевании и узнала, что она — квест, процесс, который должен идти своим чередом. Попыталась в это поверить всеми силами души, но тоска по умершему и одиночество быстро доконали меня: голова шла кругом от одной мысли, что я осталась одна, мне становилось дурно от горя.
Оно охватило всех, весь факультет разделял его со мной. Преподаватели, давние папины друзья и сотрудники, неловко бормотали подавленные слова соболезнования; однокурсники переживали за мое состояние. Однажды вечером они потащили меня в «Студенческий подвал», а у меня не хватило сил на возражения. И на развлечения тоже: после первого же стакана пива у меня отшибло память; на следующее утро я очнулась у себя дома, голова раскалывалась с похмелья, на мне была папина чистая пижама, и кто-то поставил у кровати тазик, а на тумбочку стакан воды.
Нащупав в ящике тумбочки пачку «Lucky Strike», я закурила и, лежа с зажженной сигаретой в темноте, попыталась восстановить в памяти события ночи и лицо того самого человека, который, судя по звукам, возился сейчас на моей кухне и, очевидно, проспал бок о бок со мной всю ночь. У меня в голове всплыли какие-то обрывки вечера; серьезный взгляд глаз, высокий лоб, серый костюм; я смутно припомнила, как висела у него на шее, пока мы шли по улице Сюдюргата[17], попыталась поцеловать его, но поскользнулась из-за гололеда, а он твердо стоял на ногах, когда помог мне удержаться: это я запомнила точно.
Сигарета зашипела, угодив в стакан с водой; я вылезла из кровати, мир покачнулся, во рту у меня появился кислый вкус, но мне удалось устоять. Накинув поверх пижамы шерстяной свитер, я заглянула в зеркало на дверце шкафа и рассмотрела тощее бледное пугало, представшее мне; стерла черную клейкую грязь под глазами, провела рукой по волосам. Затем открыла двери, крадучись вышла и направилась на звук.
Он стоял спиной ко мне у мойки и мыл посуду, чем, похоже, занимался уже некоторое время: трехнедельная гора грязных тарелок почти исчезла, словно по волшебству. Сама сосредоточенность со спины: он был в серых брюках и белой рубашке, рукава закатаны, тонкие светлые волосы как нимб вокруг головы на фоне окна.
Я оперлась одной рукой на дверной косяк, а другой получше запахнула свитер, затем покашляла, так что он вздрогнул от неожиданности и повернулся.
— Ты что, блин, делаешь?!
Он осторожно улыбнулся.
— Привет. Вот, решил дать тебе отоспаться, а самому прибраться немного. По-моему, это не помешало бы.
Затем вытер руки о папин фартук; высокий, худощавый, с раздвоенным подбородком и водянисто-голубыми честными глазами. Я вспыхнула:
— Что ты творишь! Значит, вот ты чем занимаешься? Спишь с пьяными девушками, а потом им посуду моешь?! Может, потом и туалет мне вычистишь? Тебя с этого прет?
Улыбка исчезла с его лица.
— Прости. Не хотел тебя пугать. И… ночью у нас ничего не было.
— Так я тебе и поверила!
— Верить или нет — решай сама. Просто ты была пьяная, больная и… так много плакала.
— Я плакала?
— Да, ты немного перебрала. Я помог тебе проблеваться, а потом ты разрыдалась и стала говорить о своем отце. Мне захотелось тебя поддержать.