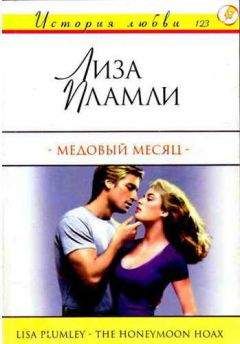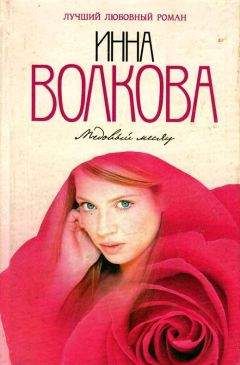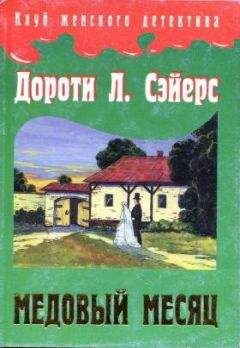Анна Богданова - Самый скандальный развод
– Ну, подумаешь, ребенок листочки оборвал! Что ж теперь, умереть, что ли?!
– Я смотрю, у тебя все легко и просто! Ребенок листочки ободрал – ничего страшного! А за ребенком смотреть надо было или вовсе не приглашать эту Анжелу! Прийти на свадьбу в медицинском халате вместо подвенечного платья, которое ты выбирала месяц, – это тоже в порядке вещей! Перепортить мне все книги в библиотеке, загибая страницы – какие мелочи! Стереть все мои документы в компьютере – сущие пустяки! – разошелся Влас.
Он еще что-то выкрикивал, а когда замолчал, я спросила:
– А зачем ты на мне женился, если я раздражаю тебя любым своим действием?
Я ушла в кабинет и снова вспомнила слова Лучшего человека нашего времени: «Он дурак – твой жених! Дубовый обыватель, которому не дано понять твоей тонкой натуры. Его всегда будет раздражать твоя несобранность и рассеянность. Наверняка он бесится, когда ты разбрасываешь вещи по квартире и понаклеила на всех стенах свои неповторимые плакатики-памятки...» (Плакатики-напоминания, правда, пришлось снять – они висят только у меня в квартире, которую Влас предлагает сдать, хотя теперь, когда мама отобрала у Николая Ивановича ключи от дома, отчим непременно потребует ключи от своей московской фатеры, и вполне возможно, родительница моя переедет туда, где я жила до свадьбы. Непонятно, почему он до сих пор этого не сделал. Наверное, растерялся.)
И мысли в голове побежали куда-то, наступая друг другу на пятки: я вспомнила свою прошлогоднюю безумную любовь. О том, как мы познакомились с великим писателем да еще и Лучшим человеком нашего времени – Алексеем Кронским. Потом я опять вспомнила его самого: высокий, статный, с зачесанными назад вьющимися светло-русыми волосами... Брови с изгибом, соболиные, почти черные; нос, чуть похожий на клюв хищной птицы, проницательные зеленоватые глаза, хрипловатый голос...
Даже почувствовала запах его любимой туалетной воды...
Что-то больно часто я его вспоминаю! Нет! Подобные мысли недопустимы! Он изменил мне. И вообще я замужем!
И все же никто не понимал меня лучше, чем он. А как он меня называл! Моя кукурузница, моя уходящая осень, мой недоступный абонент, Марья-Искусница...
– Вот ты Маша обижаешься! – мысли были грубо прерваны Власом, который уже успел не то поужинать, не то позавтракать. – А ведь я прав! Прав на сто процентов! Почему ты молчишь?
А что тут можно сказать? Я считаю, если человек полагает, что он прав на сто процентов, не стоит мешать так думать, делая его при этом несчастным.
– Нет, вот ты ответь! Почему ты молчишь? – привязался он.
– Конечно, прав. Особенно сегодня с утра, когда изъявил готовность отвезти меня в деревню неизвестно на сколько, – не сдержалась я.
– Но, согласись, твоей маме сейчас как никогда нужна помощь. Неужели ты была способна ей отказать? А в Венецию мы можем отправиться в любой момент! Ну, не дуйся, Машка! У нас ведь медовый месяц! А если честно, то я пошел на это только из-за того, что нам с тобой не помешает ни уважаемый мной Илья Андреевич, ни твоя мама, ни Овечкин! Никто!
Эгоист! «Хотя обижаться – глупо. Так не приобретешь никакого жизненного опыта. Нужно просто делать выводы из складывающихся ситуаций и поступков окружающих», – решила я и повалила Власа на кожаный диван, на котором он моментально заснул.
Шестой день медовой недели. Пятница.
На следующий день Влас снова отправился по следу исчезнувшей машины, оптимистично крикнув напоследок:
– Не переживай, Маш! В деревне мы наверстаем упущенное! Там-то ничто нам не сможет помешать! Дай только расквитаться с Ильей Андреевичем! Тогда держись – до смерти залюблю!
Я же решила поехать к себе домой, подсобрать вещи для поездки в Буреломы. Не успела я открыть дверь, как раздалось: «Д-зззззз-дз-дз!» Громко и ясно. Вот что значит мой телефон! Не то что там какое-то «пр-пр»!
– Машенька, здравствуйте. Это Иван Петрович, Анжелин папа, вас беспокоит.
– Доброе утро! – Я была удивлена – Анжелкин отец последний раз звонил мне, когда мы учились с ней в десятом классе, узнать, правда ли его дочь у меня и действительно ли готовится к экзаменам.
– Не знаю даже, как вам сказать... – замялся он. – Можно я зайду к вам через полчаса? Я отпрошусь ненадолго из церкви. Мне очень нужно с вами поговорить.
– Да, да, конечно.
Интересно, о чем это он собрался со мной говорить? Наверное, об Анжеле. Хотя с чего бы это? Пить она вроде прекратила...
«Д-зззззз-дз-дз!» Ну, началось! Не успела я появиться дома, как звонок за звонком:
– Здравствуй, моя уходящая осень, – печально проговорил Кронский. – Тебя можно поздравить? Теперь ты действительно ушла от меня навсегда?
– Леш, ты только не расстраивайся, но я правда вышла замуж.
– За этого надутого индюка?
– Никакой он не индюк!
– Ты сделала очень большую глупость! Наверное, самую большую в своей жизни!
– Перестань. Я бы сделала ошибку, если вышла за тебя!
– Дудки! – воскликнул он. – А я ведь что тебе звоню...
– Что?
– Попрощаться. Я уезжаю. Надолго.
– Куда? – поразилась я.
– Снова в Тибет. К монахам. Лечиться от импотенции и страсти к нездоровому сексу в общественных местах.
– Ты правда думаешь, что они тебе помогут? – удивилась я.
– Только они способны излечить меня, – уверенно сказал он и робко спросил: – Марусь, а можно я тебе позвоню, когда вернусь?
– Конечно, жалко, что ли!
– Спасибо, моя кукурузница, мой недоступный абонент! Знай! Ты самая лучшая в мире, и я всегда тебя буду любить!
Лучший человек нашего времени растрогал меня так, что я готова была расплакаться, но тут он обычным своим тоном весело сказал:
– Снегурочка моя, если этот дубовый обыватель, дурак твой, Отелло, будет тебя обижать, я приеду, ноги ему вырву! Ну, не скучай тут без меня! Пока!
И почему всегда одно и то же?! Стоит только Кронскому появиться в моей жизни, как в голове все переворачивается, и то, что для меня было нормальным прежде, кажется совершенно противоестественным.
В дверь позвонили. «Наверное, Иван Петрович», – подумала я.
Передо мной действительно стоял Анжелкин отец – он был с меня ростом, почти седой, в сером недорогом костюме и вишневом галстуке-селедке, модном годах в семидесятых, с вафельным тортом под мышкой.
– Проходите, пожалуйста. Сейчас будем чай пить.
– Машенька, я не займу у вас много времени, – проговорил он, протягивая мне торт.
Нечего сказать, Анжелкин отец сильно изменился (на свадьбе я как-то не обратила на это внимания): хоть он и был всю жизнь самым последним подкаблучником, но раньше глаза его горели, и он смешил при встрече все наше содружество. Теперь, кажется, ему было не до смеха – в глазах непроходимая печаль, даже уголки рта опустились, придавая лицу скорбное выражение.