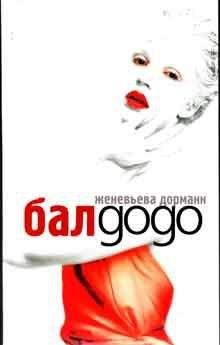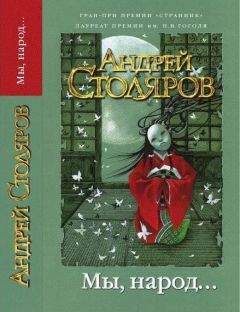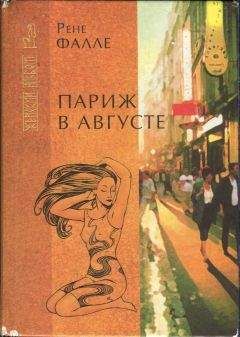Женевьева Дорманн - Маленькая ручка
Предложение компании попало в точку. Перспектива расстаться со своей долей его не радовала, но было решено, что за ним останется дом и сад на большом острове; в конце концов, остальное было лишь невозделанной землей, пустошью, не поддающейся обработке; он подумал, что, если это продать, оно никуда с архипелага не денется. Никто не помешает ему там гулять. И потом, мысль о новой лодке, которую он наконец сможет купить, настолько его возбуждала, что он подписал акт о продаже. Но не сказал об этом жене.
Впервые в жизни он что-то от нее скрыл. Почему? Ему было бы трудно сказать: в конце концов, земли принадлежали лично ему, и он имел полное право делать с ними все, что захочет. Однако инстинктивно он предпочел промолчать. При ее характере, Лазели была способна устроить скандал из-за этой продажи, он бы поддался на уговоры — и прощай, лодочка! Огюст и не догадывался, до какой степени эта ложь через умолчание усложнит ему жизнь.
Лазели потребовалось немного времени, чтобы вывести его на чистую воду. Покупка новой лодки ее удивила, но Огюст выкрутился, рассказав про сбережения и кредит, который якобы взял. Именно слово «кредит» и встревожило Лазели. Кредит — это означало векселя. Когда она была маленькая, то слышала, как отец с презрением говорил о «смазливых молокососах, что живут на векселя и долговые расписки». Она сначала подумала, что вексель — это род киселя, чем насмешила папашу Бетэна. Он объяснил ей, что векселя выдают малодостойные люди, которые, пытаясь прыгнуть выше головы, живут не по средствам, покупая то, за что не могут заплатить; что это всегда заканчивается плохо; что лучше себя ограничивать и ждать, пока у тебя будет, на что приобрести то, что ты хочешь, не влезая в долги.
И Лазели принялась трясти Огюста, чтобы выжать из него подробности, и тот, не умевший врать и уставший от разговора, клонившегося к буре, в конце концов сказал правду.
Лазели потеряла дар речи, и Огюст впервые в жизни увидел, как из глаз его жены брызнули слезы. Несколько слезинок, не больше. Дар речи к ней быстро вернулся. Вместе с глухим голосом, который ему тоже был незнаком.
— Ты это сделал? Ты посмел со мной так поступить? И мне не сказал? Ты продал Субретань и Жентэ?
Последовал поток бранных слов. Огюста называли дырявым башмаком, взбесившимся угрем, конопатчиком проклятым. Под конец Лазели, чьи глаза искрились от гнева, пообещала ему, что никогда, никогда больше с ним не заговорит. Дорого он заплатит за свою новую лодку! Всю жизнь она заставит его платить за нее!
Покуситься на земли, лишиться их было для этой потомственной крестьянки страшнее, чем самой покалечиться. Да еще Шозе! Эти острова занимали все ее сердце и мысли еще с самого детства. Она гордилась тем, что владеет несколькими их пядями, пришедшими к ней в браке с Огюстом Шевире. Может быть, то, что он был законным владельцем частички островов, в какой-то мере и помогло Огюсту тогда ее соблазнить и заставило ее согласиться разделить его жизнь. Никогда Лазели не хотелось владеть драгоценностями, красивой одеждой или даже роскошным домом. Ей было достаточно маленького каменного домика Шевире, особенно когда провели водопровод и электричество. Бесценным подарком казались ей эти три гектара, ставшие ее собственностью. Благодаря этим семейным владениям она больше не была чужой, которую остров терпел лишь, так сказать, на один прилив. Отныне у нее была собственная земля под ногами; она чувствовала себя здесь желанной, хозяйкой и госпожой. И вот эта тайком совершенная сделка выбрасывала Лазели из ее королевства и оставляла обкраденной, снова чужой и безутешной, как разбитые лодки, гниющие на дне проливов.
Никогда Лазели, больше интересовавшаяся рыболовными крючками, чем ботаникой, не чувствовала, до какой степени она привязана ко всему на острове, что не было связано с морем; ко всей этой каменистой суше, к тропинкам, перелескам, лужкам, растительным формам и запахам. Годами она шагала по острову, почти не видя его, поглощенная приливами, не заботясь ни о чем, что не было побережьем, пляжем, лодкой, утесом, куда можно вытащить лодку или откуда столкнуть в воду. Она машинально шла в свете зари или сумерек, дышала воздухом, а не вдыхала аромат острова, такой сложный, в котором смешивается резкий запах утесника и нежный — жимолости, лекарственная смола сосен и горький миндаль с примесью лаванды, аромат, исходящий от сухой травы, под дождем или росой, и паров йода, таких крепких, что голова кружится, когда после отлива страдают жаждущие водоросли. Внезапно она открыла все это с восторгом и отчаянием. Даже запах коровьих лепешек на влажной дороге вдоль стены фермы казался ей чудесным.
Как же этот болван Огюст, родившийся на Шозе, сам-то был равнодушным ко всему этому? Каким же надо быть бессердечным, бесчувственным, безмозглым, чтобы ранить ее, лишив самого дорогого?
Она слишком поздно обнаружила, до какой степени дорожила самой чахлой растительностью на диких землях, проданных Огюстом. Проданных! Ей казалось, что из-за глупости этого человека она потеряла мерцающие желтые цветки сурепки, цветы шиповника, сплетшиеся с ежевикой, фиолетовые ягоды терна, сентябрьскую морошку, майский боярышник, высокие заросли пурпурной валерьяны, вытягивающиеся на насыпях. Прощайте, морские лилии и синие звезды огуречника! Прощайте, лесные гиацинты, неприкаянный вереск и розовые кусты кровохлебки! Прощайте, дурман и белладонна! Прощайте, кермек и морской камыш! Прощайте, «медвежьи уши» с бархатными листьями, мягкими, как уши кролика. Кстати, эти слово — «кролик», проклятое, ненавистное морякам, которым оно несет столько невзгод, что они не смеют его произносить и называют это животное лишь «зверьком с большими ушами», — это слово она будет повторять до головокружения, до геенны огненной! Кролик! Кролик! Кролик! И пусто потонут все лодки, предательски купленные кровью ее островов!
Огюст ничего не ответил, уверенный в том, что гроза пронесется и с наступлением ночи он сумеет укротить Лазели, по крайней мере утихомирить. Он знал свою буйную женушку, знал, что надо сделать, чтобы она стала нежной, как морская капуста весной. Бояться нечего, у него все козыри на руках.
Но Лазели сдержала слово. Она постелила себе в столовой, чтобы унизить его, чтобы все видели, что она покинула супружескую спальню, она отняла у него возможность говорить, даже перекинуться самыми обычными словами в повседневной жизни. Она даже не смотрела на него. Словно его и не было. Ему казалось, что она проходила сквозь него. Когда он был нужен, она использовала детей: «Скажи твоему отцу, что суп готов… Скажи твоему отцу, что надо принести с лодки газовые баллоны…» И все это у него на глазах, словно он был далеко или его не было вообще. Поначалу дети решили, что это игра, а потом привыкли. Огюст от этого страдал, но в конце концов отказался от мысли снова вернуть расположение жены. Характер у Лазели испортился. Только старший сын, Жан-Мари, был способен выманить ее из гранитной башни, в которой была замурована ее душа. Но Жан-Мари редко бывал дома. Его отправили в пансион в Авранш, где он готовился к выпускным экзаменам. Лазели проталкивала своего ненаглядного в Высшее Военно-Морское училище.