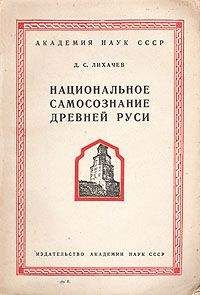Анна Берсенева - Гадание при свечах
– А как? – тихо спросил он. – Да и какая разница, каким тоном он это сказал?..
– Дело не в нем. Я поняла, что не могу не поехать с ним, вот и все…
– Ты думаешь, что влюбилась в него?! – Женя сглотнул комок, вставший в горле. – Ты думаешь, что вот так, с первого взгляда, способна в кого-то влюбиться?! – Он говорил теперь громко, почти кричал, но это ему было все равно. – Ты думаешь, будто вообще знаешь, что такое любовь?!
– Я не знаю, влюбилась ли в него, – ответила она, и Женя увидел, как глаза ее полыхнули темным пожаром – никогда прежде он не видел этого в ее глазах. – Но это сильнее меня… Мне мало его, ты понимаешь? Вот он был со мной, мы вообще не отрывались друг от друга эти двое суток – а мне каждую минуту было его мало и хотелось, чтобы его было еще больше! Я не знаю, любовь ли это, но я знаю, что это так…
Ее слова еще не отзвучали, а Женя уже понял: этот бред кажется ей таким же резонным объяснением неизбежного расставания, как желание ехать в поезде и смотреть в окно…
Вскоре он понял и другое: невозможно, чтобы жизнь шла так, как будто ничего не случилось. Невозможно ходить в университет на лекции, сидеть в своей комнате и слушать ту же музыку, которую они слушали с Алиной, невозможно отводить глаза, встречаясь взглядом с родителями.
Особенно родители… Мама взяла отпуск – посреди зимы, хотя Женя знал, что в июне они с отцом были приглашены к друзьям в Болгарию. Отец не засиживался теперь допоздна с аспирантами, а спешил домой, как будто там находился тяжелый больной. Да еще пирожки какие-то вечно пеклись, покупалась икра, старательно и шумно праздновались все праздники…
Женя почувствовал: еще пару месяцев такой жизни – и он выбросится в окно. К тому же Алина мерещилась ему повсюду, на всех поворотах улиц, по которым она любила гулять, в подъезде его дома и в лифте, в его комнате и в постели… Надо было что-то делать, и немедленно.
И Женя принял решение. Конечно, Алина на какое-то время парализовала его волю. Но теперь, когда от нее осталась только боль, он знал, что надо делать.
– Вот что, милые предки, – сказал он однажды вечером, когда мама разливала чай, а отец делал вид, будто полностью погружен в чтение «Известий». – Я должен уехать. Может быть, ненадолго, – добавил он успокаивающе, заметив, как замерла мамина рука, держащая заварник.
– Куда же, позволь узнать? – спросил отец. – В кругосветное путешествие?
– Нет, – усмехнулся Женя. – Кругосветное путешествие мне не по карману. Так что пришлось найти что-нибудь попроще. Я уезжаю в Спасское-Лутовиново.
– Та-ак… – протянул отец. – Что ж, тоже очень романтично.
– Да плевать мне на то, как это выглядит! – взорвался Женя. – Я все понимаю – выглядит пошло: неудачная любовь, разбитое сердце и бегство в леса! Но что мне делать, если я не могу… Ну не могу я здесь сейчас оставаться, как вы не понимаете! Пусть пошло, пусть бегство…
– Ну почему же не понимаем, – вдруг спокойно возразила мама. – По-моему, Женечка, нас не стоит упрекать, будто мы чего-то не понимаем. В леса так в леса. Но, во-первых, почему в Спасское? А во-вторых – как же аспирантура?
– Во-вторых, я уже перевелся соискателем. Буду писать диссертацию сам по себе, приеду потом, сдам минимумы. А во-первых, ты помнишь Наташу Спешневу? Ну, она у нас на третьем курсе семинар вела, еще аспиранткой была тогда? Вот она и ездит в Спасское летом, подрабатывает экскурсоводом. Я ее недавно встретил – говорит, там сейчас как раз освободилось место научного сотрудника. Папа! – Женя повернулся к отцу. – Ты же знаешь, я тебя никогда не просил, но сейчас…
Отец был понятлив и на все готов ради сыновнего спокойствия – и уже через две недели Женя шел по расчищенной от снега дороге к тургеневскому дому…
Спасское-Лутовиново оказалось как раз тем местом, в котором он и должен был сейчас находиться. Это Женя понял сразу, едва вошел в тургеневский дом. Теперь, зимой, в отсутствие посетителей, он действительно был домом, созданным для творчества и душевной гармонии.
«Вот и все, – подумал Женя, осторожно проводя ладонью по темно-глубокой поверхности круглого столика в библиотеке. – Только так и возможно жить: чисто, ясно и покойно, и так я буду теперь жить…»
Глава 5
Марина работала на фельдшерско-акушерском пункте деревни Петровское всего две недели, а количество людей, приходящих на прием, увеличилось так, словно по окрестным деревням прошла эпидемия.
Приходили старухи, у которых ломило поясницу, и беременные, у которых «что-то вот тут вот колет по утрам», и молодые девушки с собственным диагнозом – «точно, что сглазили, и рука отнимается, и парень бросил»…
Марина не знала, отчего пошла о ней слава, как о какой-то особенной медсестре, к которой есть смысл обращаться по всякому поводу, – но она и не слишком об этом задумывалась.
Все время, что не было занято у нее работой, она думала только о Жене. С той самой ночи, когда, насквозь промокшая, в тяжелом дождевике, с которого ручьями лилась дождевая вода, она поднялась по ступенькам веранды и постучалась в его дверь.
За дверью было тихо, но Марина видела, как спит он, раскинувшись на широкой кровати, как вздрагивают во сне его полураскрытые губы. Она ждала, когда он проснется, когда услышит ее зов – и даже не постучала еще раз, чтобы не мешать ему услышать…
Женя распахнул дверь, не спросив, кто там. Он был без рубашки, одной рукой застегивал джинсы и, щурясь, всматривался в темную фигуру на веранде.
– Это ты! – тихо воскликнул он. – Марина, это ты!..
Он шагнул ей навстречу и тут же обнял ее. Сквозь мокрый дождевик, сквозь собственное влажное платье Марина почувствовала, как затрепетало его тело, словно между их телами не было всех этих случайных преград.
Она откинула капюшон, чтобы яснее видеть Женино лицо в предрассветном полумраке, и он тут же поцеловал ее – второпях, в краешек губ. Он не произнес больше ни слова после первого своего тихого вскрика, и Марина тоже молчала, прижимаясь к нему, замерев у его сердца и забыв обо всем.
Она не заметила, как они оказались в комнате. Кажется, Женя так и не выпускал ее из объятий, но уже через несколько минут она стояла босиком на домотканом коврике, мокрый дождевик лежал на полу, а Женя торопливо расстегивал длинную «молнию» сзади на ее платье – то ли желая освободить ее от холода промокшей одежды, то ли торопясь обнажить ее тело.
Платье сползло наконец вниз – и тут же Женины губы прикоснулись к холодной Марининой коже.
В нем было много того юношеского трепета, который с ума сводит женщин постарше, способных оценить искренность и чистоту порыва. Но Марина не знала этого, не могла знать: Жена был у нее первым, и она просто чувствовала, что трепет его тела пронзает ее, заставляет трепетать в ответ и стремиться к нему, к нему – неостановимо…