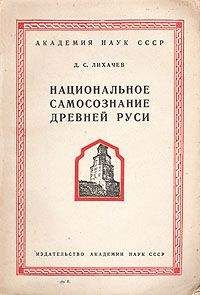Анна Берсенева - Гадание при свечах
Едва не плача, смотрела Марина на свое тело, ненавидя даже его жемчужную белизну, оттененную рыжими волосами.
Она и представить себе не могла, как пленительна ее хрупкая красота, как много обещают непроявленные, робкие изгибы ее тела. Чтобы понять это, нужен был взгляд женщины искушенной, знающей мужские пристрастия. А что могла понимать в этом Марина, над которой только недавно разомкнулся очарованный круг?..
Она достала из шкафа Женину клетчатую рубашку, джинсы. Все это было ей великовато, но ее собственная одежда еще не высохла и выбирать не приходилось. Потом Марина застелила постель, прислушиваясь, как хозяйка громко созывает кур во дворе, с другой стороны дома.
Так началась их жизнь в Спасском-Лутовинове. Так, подобно яркому осеннему цветку, зацвела их любовь.
На следующий день Марина поехала в Орел за вещами. Женя вызвался было ей помочь, но она отказалась: не хотелось, чтобы он присутствовал при всех этих хлопотах, когда она будет договариваться насчет машины, увольняться с работы. Он был удивительный, она надышаться на него не могла – и зачем ему все это?
Поэтому, как ни жаль было расставаться даже на день, Марина поехала в Орел одна.
– Как я скучал по тебе! – встретил ее Женя. – Едва дверь за тобой закрылась…
Чемоданы и узлы стояли у порога, тускло поблескивало старинное зеркало, а Марина и Женя целовались, забыв обо всем, не видя, как сплелись и слились их руки и тела в глядящей на них зеркальной глубине.
У Жени на неделю набралось отгулов, и он взял их все сразу, чтобы как можно больше быть с Мариной. Хозяйке Клавдии Даниловне он представил Марину как свою невесту, и та одобрительно кивнула:
– И то, Женечка, правильно! Дело молодое, чего ж одному-то горевать? Обустраивайтесь, детки, кого вам стесняться!
Женщины вообще чувствовали к Марине мгновенное расположение, это и на ФАПе сразу стало так. Но фельдшерско-акушерский пункт – это было потом, а первые две недели Марина не думала ни о чем, кроме Жениной любви; весь белый свет растворился в его страсти.
Сначала она панически боялась, что холодность первой ночи повторится. Но уже в тот день, когда она перевезла вещи, Марина к радости своей поняла, что опасения ее были напрасны.
Какая там холодность! Они с Женей чуть не разбили зеркало, прислоненное к стене, потому что просто не дошли до кровати в день ее приезда… Марина сама расстегнула его брюки, сама разделась и раздела его, видя, какое удовольствие доставляют ему движения ее рук, снимающих то его рубашку, то свой лифчик.
– Как же ты чувствуешь все… – прошептал Женя, когда Марина поцеловала его сосок и призывно прижалась грудью к его груди.
Она всегда чувствовала все, что совершалось в мире, но то, как она чувствовала Женю, было совсем иное… Что значил перед этим целый мир!
Всю эту удивительную неделю они остыть не могли от испепеляющей тяги друг к другу.
– Бывает же в жизни награда за все… – повторял Женя, отдыхая рядом с Мариной от любовной истомы.
Она не понимала, что значат эти слова, но понимала, что он рад ей, что он тянется к ней и не может оторваться от нее ни на мгновение.
А сама она словно вознаграждала себя за те годы, что прошли в одиночестве, в холодности собственной защищенности. Теперь же ей казалось, что она живет совсем без кожи: так остро, до боли, чувствовала она каждое прикосновение Жениных рук и каждое его движение…
Ночами, даже не одеваясь, они выходили на веранду. Никто не мог увидеть их здесь, хозяйкин вход был с другой стороны, а вдоль забора росли густые кусты малины. Женя садился на ступеньки, ведущие в сад, закуривал, а Марина обнимала его сзади, прижимаясь бедрами к его плечам и ожидая, когда он почувствует прилив желания и отбросит сигарету.
Они почти не разговаривали в эти дни и ночи, понимая друг друга без слов. И только в последний «отгульный» день, ближе к вечеру, они вышли наконец из дому, решив прогуляться немного по окрестностям.
День был тихий, осенний и безветренный, и им хорошо было идти вдвоем по дороге в полях. Сначала они молчали – просто потому, что уже привыкли молчать вдвоем. Марина прислушивалась в такие мгновения к биению Жениного сердца, которое даже в отдалении слышала отчетливее, чем собственное.
– Правда, хорошо здесь, Машенька? – спросил наконец Женя.
Это он однажды ночью так ее назвал – Машенькой, а потом стал называть так все время, и у нее сердце замирало, когда он произносил это имя. Это было не ее имя, но это было имя ее матери. В том, что Женя вдруг назвал ее именно так, таилось чудо их встречи и чудо перемен, произошедших с нею.
– Правда. Здесь ничего нам не мешает, – кивнула Марина, беря его под руку.
– Нет, не только. Эти места лечат душу, ты чувствуешь?
– Твою душу надо лечить?
Марина внимательно посмотрела на него; Женя отвел глаза.
– Нет, я просто так сказал… Я здесь полгода всего, а полюбил эти места. Машенька, – вдруг сказал он, – а ведь я совсем ничего о тебе не знаю.
– Что ты хочешь знать? – улыбнулась она.
– Да хоть что-нибудь. Ты сама из Орла?
– Нет, – покачала головой Марина. – Я в Карелии родилась, в поселке Калевала.
– В Карелии? – Женя посмотрел на нее удивленно. – Странное перемещение… Как же тебя в Орел занесло?
– Так получилось. Я врачом хотела быть, но… Просто не успела к институту подготовиться, не поступила бы. Пересмотрела справочник, нашла Орловское медучилище. А мне все равно было куда, лишь бы подальше. Поехала, поступила, закончила. Я училась хорошо, а в Карелию возвращаться смысла не было, я и осталась в Орле. Медсестрой в кардиологии.
Она говорила спокойно, стараясь не будоражить печальных воспоминаний: ей просто не хотелось сейчас нарушать покой своей любви. Но, наверное, Женя почувствовал недоговоренность того, что она рассказала.
– А родители твои? Они в Карелии остались?
– Нет, – покачала головой Марина.
– А где?
– Их нет. Они умерли.
Женя растерянно замолчал. Родители, дом – все, что надежной стеной стоит за спиной любого человека, – казалось ему незыблемым. И вот перед ним стоит девушка, в жизни которой всего этого нет. И как разговаривать с ней?
– А бабушка, дедушка – ну, хоть какие-нибудь родственники?
– Бабушка тоже умерла, а других родственников просто не было. То есть они были и сейчас есть, наверное, но далеко – все равно что нет, и они обо мне даже не знают.
Эти слова ничего не прояснили, наоборот – добавили Жене растерянности.
– Это… давно произошло? – осторожно спросил он.
– Не очень. Папа шесть лет как умер, бабушка – через год после него. А мама – давно, я ее вообще не знаю. Она умерла, когда я родилась.