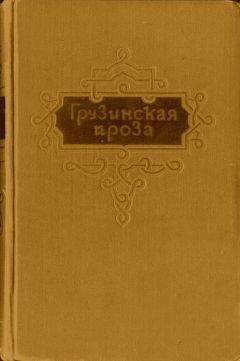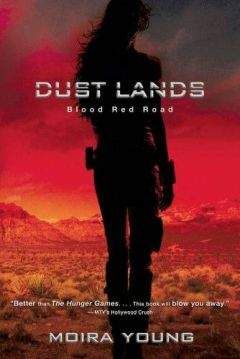Джулия Грегсон - Жасминовые ночи
В шутливом «салам» он коснулся своего лба, уст и груди.
Она не ощутила радости и торжества, когда он это сказал. Ей уже было все равно.
– Прости, Макс, – ответила она. – Я не хочу стать примадонной.
Он обтер губы салфеткой и посмотрел на нее.
– Саб, у творческих людей как у спортсменов – ты не должна позволить мышцам сделаться дряблыми. Талант нуждается в тренировке.
– Я знаю.
– Тут не явится волшебница и не взмахнет своей палочкой.
– Да что ты говоришь? Неужели? – Она сгребла пальцами крошки в горку и посмотрела на него.
– Я что, взял неверный тон?
– Совсем чуточку, Макс. Но спасибо за внимание.
Когда он залпом допил кофе, она почувствовала, как одним щелчком выключился его шарм. Теперь она знала, как работали у Макса мозги. Там уже крутились колесики – кого взять взамен нее; потом, возможно, найдется какая-нибудь более-менее подходящая сучонка, и он скажет, что Саба Таркан была не так хороша, какой себя воображала, и что он сразу заметил ее огромные изъяны. Ведь внутри Макса Бэгли пылал огонь его Эго, в который требовалось постоянно подбрасывать хворост.
– Как там Янина? – поинтересовалась Саба, пока Бэгли искал свою шляпу.
– Она поехала в Индию, а оттуда ее вроде отправили домой. – Он угрюмо посмотрел на нее. – Она вообще ничего не умела. – Они помолчали. – Ведь Янина была жуткая размазня, верно? – добавил он. – В чем-то симпатичная, но без всякого чувства юмора.
– Когда я думала о ней, – сказала Саба, – ну, после своего отъезда, мне было ее жалко. Как-то она рассказала, что с трех лет занималась балетом, что семья тратила на нее все деньги. У нее не было детства, а теперь не сложилась и карьера – когда перед ней стали открываться двери театров, началась война. Она уверена, что ее лучшие годы проходят впустую, ведь балерины в этом отношении несчастные люди.
– Да, война искорежила много жизней, – равнодушно подтвердил Макс. – Что тут говорить? Надо жить дальше.
Он все-таки настоял, что проводит ее до дома. Посыпался мелкий дождь, небо заволокло темными тучами.
– Забавно работать в труппе, верно? – заметил он, когда они шли по разбитой мостовой, обходя ямы. – В какой-то момент тебе становится необычайно уютно, ты в курсе всех любовных дел, знаешь слабости своих артистов и что они любят есть на завтрак, знаешь про состояние их кишечника, знаешь их возможности на сцене, их предел – а потом бац! – и все разбежались. Когда ты работаешь в шоу, для тебя это самая важная вещь на свете. – Его голос устало оборвался.
– Макс, что ты будешь делать, когда закончится война?
– Не знаю. Может, найду другую работу, – мрачно буркнул он. – Опять буду ездить с гастролями.
Саба ужаснулась безнадежности, с какой он это проговорил.
– Почему ты не хочешь поехать домой и немного отдохнуть? – Он рассказывал о своей квартире в Лондоне.
– В мою-то конуру в Масуэлл-Хилле? – ответил он тем же безразличным тоном. – Если она еще цела. Что за радость?!
Следующим гостем был Богуслав, навестивший ее перед тем, как отправиться в Индию. Его привычный леотард[147] сменился на блестящий, чуть великоватый костюм, сшитый, как сообщил Бога с гордостью, портным на базаре. Он стоял в середине комнаты, незаметно напрягая и сгибая разные мышцы, и сбивчиво произносил речь, очевидно, приготовленную заранее. Он сказал Сабе, что она очень приятная и красивая и что после войны им надо поехать в Бразилию и выступать там вместе. А если ей очень хочется, то они могут пожениться.
В ответ она произнесла собственную речь – замечательное предложение, мило с его стороны, но она поедет домой и т. д. Она необычайно обрадовалась, когда внезапно вернулась Арлетта. После двухчасовой репетиции у подруги хватило энергии восхититься его костюмом, сшитым явно для этого случая, и ущипнуть его за щеку. Потом она пригласила Богу отведать с ними вместе блюдо номер один. Саба смотрела на нее с благоговением.
Когда Бога ушел, Арлетта рухнула на диван словно тряпичная кукла и пробормотала:
– Господи, я чувствую себя жутко. Уверена, что я простудилась либо у меня грипп или еще какая-нибудь гадость. Поэтому у меня к тебе огромная, огромнейшая просьба.
Она сползла на пол, сложила молитвенно руки и попросила Сабу помочь ей завтра вечером в небольшом концерте, который состоится на авиабазе под Суэцем.
– Встань, глупая женщина! – У Сабы не было настроения ни шутить, ни уж тем более выступать. – Что ты задумала?
Она знала, что не готова петь. Но Арлетта настаивала. Только парочку дуэтов, умоляла она. Получится забавно. Старый добрый доктор Огни-Рампы вылечит ее.
Но испытанное актерское средство не помогло. Саба согласилась спеть ради Арлетты, а та, с красным носом и совсем охрипшая, была счастлива, что вернула подругу на сцену. Она придумала весьма взрослую версию «Молитв Кристофера Робина» («Ведь забавно было сегодня в бане? Холодное было очень холодным, а жаркое о-о-очень жарким»). Они спели вместе пару легкомысленных дуэтов: «Makin’ Whoopee» («Кричим ого-го») из мюзикла, потом комический номер «Щека к щеке», где они изобразили рядового Джейнса, у которого щеки склеились жевательной резинкой. Арлетта, уже благополучно выздоровевшая, чуточку отошла от сценария, сопровождая припевы экстравагантным танцем шимми, но военным это нравилось, и актрисы покидали сцену под пронзительный свист и аплодисменты.
А Саба, глядя со сцены на море парней в хаки, на одиночество и тоску в их глазах, сделала для себя невеселое открытие: ей не нужны были ни сердце, ни душа, чтобы заставить зрителей ликовать и хлопать, – еще немного, и она начнет выступать механически, словно дрессированный пони в цирке.
После паузы Арлетта, которой предстояло петь соло, вбежала за кулисы, драматически сжимая горло, словно собиралась себя задушить.
– Я не могу. Не могу. – Она еле хрипела. – Голос у меня пропал окончательно.
Ну, может, это была хитрость, а может, и нет, но Сабе ничего не оставалось, как выступить без подготовки и репетиции. Все шло нормально, пока парнишка из первого ряда не попросил ее спеть «Туман застилает твои глаза»[148]. Последний раз она пела ту песню на Рю Лепсиус, когда они лежали в постели, она прижалась щекой к его груди, а он расчесывал пальцами ее волосы.
К концу песни ее захлестнула волна черной тоски и перехватило дыхание. Мальчишка, заказавший песню, худенький, коротко стриженный, удивленно смотрел, как она убегала со сцены, когда музыканты еще доигрывали последние аккорды.
Она сбежала по ступенькам и побрела вдоль грязных палаток, ниссеновских бараков из рифленого железа, контейнеров. В ту ночь не было звезд, только черное небо, много миль грязи и колючей проволоки. Арлетта нашла ее в проходе между рядами палаток – Саба сидела в грязи и рыдала, рыдала.