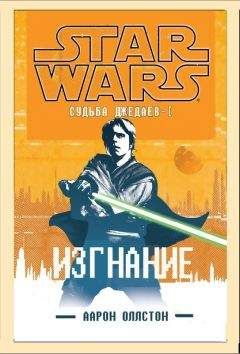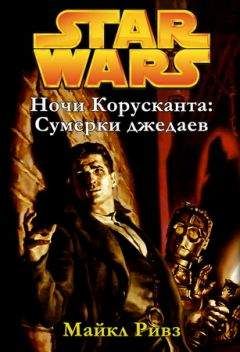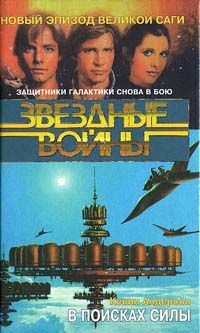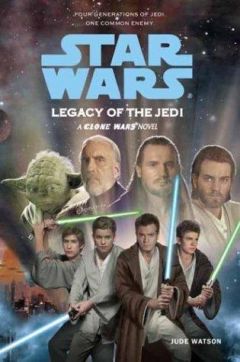Аркадий Крупняков - Вольные города
Князь возвратился усталый. Вошел в опочивальню, сбросил с головы соболью шапку, скинул с плеч бобровую шубу, расстегнул пояс. Спросил:
— Сына моего неразумного привез?
— Не привез, государь. Силу употребить я не посмел, а на мои добрые увещевания он ответил словами: «Лучше-де я здесь погибну, а к отцу не пойду. Я — воин и с рубежа земли не тронусь».
— Грамоту мою приказную отдал?
— Он ее не исполнил. Мало того, устерег ордынскую переправу и налетел на татар, более пятисот ратников положил в той стычке без пользы.
— Ну а ты-то, князь, зачем был послан?! Тебе, я чаю, хорошо ведомо, что сейчас ордынцев воевать рано — зря людей губить. Пошто ты не схватил сего спесивого щенка и от рати пошто не оторвал? Силы не хватило?
— Я, государь мой, уж сед, и ты прости меня, жизнью научен. Меж вами давно вражда идет, и кто в этой борьбе пересилит, мне неведомо. Быть может, он — сын твой.
— Вот как?! Уж не его ли сторону взять хочешь?!
— Ты на меня глазами не сверкай, Иван Васильевич, но ему теперь терять нечего. Наследия твоего он лишен, теперь у него одна надежда на силу да на недругов твоих.
— Неужто он ордынцев на подмогу звать будет?
— Окромя татар, у тебя недругов немало. На вот, прочти...
— Что это?
— Послание Вассианово. И заметь при этом: послание тебе, ты его еще не получил, а оно, размноженное монахами, в полках читается, в Москве о нем все знают. А тут тебя в прямой измене упрекают. И не дай бог, Ахмат нас одолеет, тебя твой сыночек с попами к кобыльему хвосту привяжут, а мне голову снесут и род Холмских весь повыведут. Чти,— князь протянул Ивану свиток.
— Не хочу. Сам прочти.
Холмский пододвинул свечу, развернул свиток:
— «Благоверному и христолюбивому, благородному и богом венчанному,— начал читать Холмский,— преславному государю
великому князю Ивану Васильевичу всея Руси богомолец твой, архиепископ Вассиан Ростовский, благословляю и челом бью. Ныне слышим, что бусурманин Ахмат христианство губит, а ты перед ним смиряешься, молишь о мире, а он гневом дышит, твоего моления не слушает, хочет до конца разорить христианство. Дошел до нас слух, что прежние твои развратники не перестают шептать тебе в ухо льстивые слова и советуют предать на расхищение волкам словесное стадо христовых овец. Какой пророк, какой апостол научил тебя повиноваться этому богостыдному, оскверненному, самозванному царю? Не уподобайся окаянному Ироду...»
— Ироду? Вот до чего дошло. Хватит, боле не читай. Лучше скажи — ты на берегу Угры был? Что про Ахмата слышно?
— Был. От хана лазутчика слушал. И будто хвастает Ахмат и говорит: «Даст аллах зиму на вас: когда все реки станут, то много дорог будет на Русь, и никто не сможет остановить меня».
— Скоро ли на Угре лед будет, по-твоему?
— По утрам, государь, прибрежные воды схватывает ледком, но днями солнечно, и лед тот тает. Брат твой, Андрей Меньшой, спрашивал, как быть, когда лед будет крепок. Сын твой рвется на переправы...
— Завтра же шли гонца с моим приказом: как только появится тонкий лед, отвести рати на Кременец, а полки, что под рукой сына моего, еще дале — на Боровск.
— Тут и я замыслов твоих, государь, не понимаю. От Боровска до Москвы рукой подать...
— Скажи, князь, от Угры до Кременца много ли сел?
— Леса там дремучие. Деревенек, почитай, совсем нет.
— Слышал я, что воины Ахматовы сей день постолы в казанах варят и жрать им нечего. А в лесах, когда снег выпадет, он не токмо себе, а и лошадям своим корму не найдет.
— А ежели Казимир ему кормов подбросит, подмогу пошлет? Не зря хан прямо на нас не пошел, а к левому рубежу жмется. Литва там рядом...
— Казимир с крымским ханом воюет. Ему не до Ахмата.
— А ежели Ахмат в тех лесах не растворится и пойдет прямо?' Кременец, тем паче Боровск нам не удержать.
— Добро было бы, коли пошел он на Боровск. Но хан не пойдет. У него уже на седни хвост к берегу Угры примерз...
...Хан каждую ночь засыпает в своем шатре под заунывные песни волчьих стай. По утрам выскакивает на волю, ждет заморозков. Но мечет по берегу студеный ветер вороха опавших листьев, а мороза все нет и нет. Иногда прихватит за ночь землю ледком, а днем либо солнце, либо дождь, и все снова тает.
Вчера на рассвете вполз в шатер воин, распластался перед кошмой, на которой спал хан.
Ахмат сердито тряхнул головой, сбрасывая остатки сна, сказал хрипло:
— Встань, говори.
Ордынец сорвал с головы войлочную шляпу, запахнул мокрый, драный стеганый халат и, дрожа всем телом не то от страха, не го от холода, произнес:
— Худые вести привез.я, могучий. Всадники Туралыка до столицы не достигли и все рассеяны у Семи холмов. Сам Туралык попал в плен к урусситам.
— Откуда там урусситы?
— Не знаю, великий. Нас осталось не более сотни, юнагас Хонтуй отошел к Донцу, а меня послал к тебе. Он ждет твоих повелений.
— Иди обсушись. Повелеваю прикусить язык и молчать. Узнают об этом — язык вырву.
В другое время после такой вести хан излил бы зло на гонце, принесшем дурную весть, приказал бы отрубить ему голову. От такой обиды он откусил бы кончики своих усов, изгрыз бы губы до крови. Позвал бы слуг и бил бы их нагайкой, срывая гнев. А сейчас хан промолчал, укрыл голову подушкой, только застонал устало. Для гнева не было сил, да и не время буйствовать — надо спокойно самому, без советников, обдумать, что делать дальше. Если бы это был простой набег... Раньше, бывало, придет в войне удача —слава аллаху, возвращается хан с добычей. Если набег неудачен, тоже невелика беда: отлежится хан в своей столице — и снова в дорогу. Теперь совсем другое дело. Сейчас этот поход решает: быть Орде или не быть. Домой теперь дороги нет, в Сарай вести войско нельзя Стоит только двинуться с места—русские сразу в спину ударят и будут бить до самой Рязани. Там айдамахи какие-то появились. Если они за один день пять тысяч лучших бойцов разметали, значит, у них сила. Хоть и обессилели ханские сотни, но всей ордой разбойников придавить можно, до Сарая добраться можно. Но столица пуста, не успеешь там кибитки поставить, как Менгли-Гирей пожалует. Ахмат знает: за спиной крымского хана султан Баязет. Они его не помилуют.
Остается одно — Москва. Надо строптивому Ивану все простить, пожаловать его, выпросить хоть какую-нибудь дань — тогда можно спокойно и не спеша в родные степи идти. Гордость свою до поры до времени спрятать.
И, не советуясь с сераскирами, хан велел послать гонца в Москву.
Гонцу было сказано так:
— Передай князю Ивану, что я его жалую. Но пусть он сам придет бить челом, как делали предки его.
Гонец ускакал. Идет неделя, вторая, третья. Князь все не едет.
Снова хан давай собирать совет. А на совете даже настырный Ка- ра-Кучук против переправы. Надо ждать зимы,— сказал он,— либо склонить князя на мир». Послал хан гонца в Боровск, где в это время стоял князь.
— Если сам не хочешь ко мне идти, сына или брата пошли.
Иван обещал послать сына. Еще прошла неделя. Нет ни сына
княжеского, ни брата. А время идет. Хан шлет еще гонца.
— Если сына и брата не хочешь слать, то пришли Никифора Басенка. А то даст бог зиму — все реки станут, тогда много дорог будет на Русь.
Хану теперь не до гордости, пусть русские посылают просто ратника — лишь бы мир выговорить. А Иван думает: «Теперь не я к тебе, а ты ко мне гонцов шлешь. До зимы же ты не токмо лошадей, но поеголы свои сыромятные сожрешь».
В первых числах ноября выпал снег. Мокрый, но обильный. В реке Угре снежная каша — льду еще не жди.
А в стане ордынском разгулялась простудная хворь. Мрут ордынцы тучами — хоронить не успевают. Ахмат ждет ледостава, а на дворе слякоть. Совсем плохо хану: он тоже простудился, все тело в жару, ломит кости, в голове боль.
Десятого ноября, наконец, ударил страшный мороз. А по морозу прискакал из Сарая всадник с вестью: Крымская орда вырвалась на просторы Дикого поля и идет к столице хана. Ахмат выслушал весть лежа и ничего не сказал. Ночью позвал Кара-Кучука и, задыхаясь, выкрикнул всего одно слово:
— Домой!
В один день свилась орда, собралась и ринулась через литовские и польские земли в свои пределы. Ахмат, когда его выносили хворого в повозку, сказал Кара-Кучуку:
— Главным подстрекателем этого несчастного похода был круль Хазиэмир. Это он погубил поход, оставив нас без помощи. Теперь для меня врага хуже, чем он,— нет.
А это означало: грабь, разоряй, жги.
Глава девятая