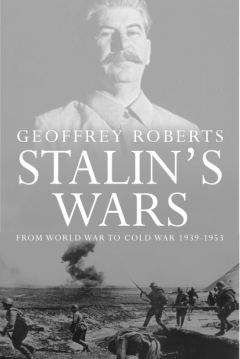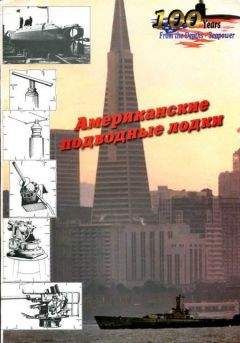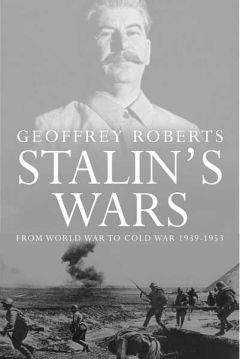Луиджи Капуана - Маркиз Роккавердина
Синьора Муньос, которая первые недели жила у маркиза, захотела вернуться к младшей дочери в родной дом, где многие годы была счастливой женой и матерью, а потом пережила в слезах и с разбитым сердцем разорение, наступившее после внезапной смерти мужа. Два или три раза в неделю они с Кристиной обедали в доме Роккавердина, проводили там каждое воскресенье. Тем не менее это не мешало маркизе все чаще думать о той, «другой», десять лет ходившей по этим комнатам и, казалось, оставившей тут резкий дух грешницы, столь неприятный ей, чистой душой и телом.
Маркиз вновь вернулся к своим делам, которые почти каждый день вынуждали его ездить в Марджителло, где в самом разгаре был сбор винограда; близилось и время сбора оливок. Дважды он привозил сюда маркизу и с гордостью показывал ей машины, блестевшие, как серебряные, которым вскоре предстояло немало поработать, показывал взятую напрокат у провинциального сельскохозяйственного общества молотилку, поглощавшую огромным ртом снопы и выбрасывавшую обмолоченное зерно в готовые принять его мешки. Она сделала вид, будто интересуется и молотилкой, соединенной длинным ремнем с дымившимся рядом мотором, и машинами, которые вскоре будут залиты молодым красным вином, измазаны оливковым маслом, перепачканы выжимками и станут даже еще лучше, еще красивее, чем сейчас, — эти великолепные механизмы, выставленные явно напоказ.
Но в то время как маркиз показывал ей все это, давая подробнейшие объяснения, превознося свою инициативу, свои планы и так рисуя будущее аграрного общества, словно невозможно было ни в малейшей степени усомниться, что оно будет именно таким, каким он представляет его себе, Цозима почувствовала, что в глубине ее души рождается разочарование, нежданная грусть, и начала понимать, что заняла в его жизни такое же по значению место, как прессы для винограда и оливок и все прочее, что постоянно занимало его, не всколыхнув в его сердце чего-то более глубокого, более нежного, что она и сама не очень-то ясно и точно представляла себе, но чего, с болью замечала она, маркизу явно недоставало.
Она боялась, однако, что ошибается, особенно опасалась показаться или выглядеть недовольной и едва ли не неблагодарной, прося у судьбы более полного вознаграждения, нежели то, что дано ей за долгие страдания, за постоянство, за тайную преданность маркизу, когда он совсем забыл о ней, целиком увлеченный «другой», более молодой, более свежей, чем она, той, что конечно же должна была казаться ему и намного красивее.
Поэтому ревность к прошлому опять пробуждалась в ее сердце, как когда-то. Но тогда она смирилась. Теперь же чувствовала, что не сможет примириться никогда. Как же все-таки сравнивал их маркиз? И что сделать, чтобы он перестал сравнивать?
Синьора Муньос, баронесса, Кристина, все, с кем она виделась, ясно давали понять, что считают ее счастливой. И, заметив легкую тень грусти, туманившую ее глаза, проступавшую в характерном изгибе губ или в усталости, они спрашивали ее, не чувствует ли она легкого недомогания, и улыбались, полагая, что речь идет о признаках, которые могут служить радостным предвестием.
Она отрицала:
— Нет, нет. Я чувствую себя хорошо, даже очень хорошо. Разве мне чего-нибудь недостает?
— Чего тебе может недоставать, дочь моя? — говорила ей баронесса. — Но не надо краснеть, раз уж ожидаешь такое счастье…
— Нет этого, тетушка! Уверяю вас!
— Тогда что же с тобой? Ты бледна…
— Ничего, тетушка. Я всегда была немного бледна.
— Месяц назад ты порозовела, не узнать тебя было. А теперь твоя мать даже тревожится. Надо бы тебе отказаться от этих слишком темных платьев. Не забывай, что ты замужем, что ты маркиза Роккавердина…
Цозима, ради матери и сестры, хотела выглядеть скромно, как прежде, когда она была просто синьориной Муньос. Маркиз в брачном контракте выделил ей в приданое обширное имение Поджогранде, а на словах разрешил, более того, высказал при этом пожелание, чтобы она тратила доходы от него на нужды ее родных, не задевая при этом их законной гордости.
Синьора Муньос возразила дочери:
— Мы как две мухи. Того, что у нас осталось, нам достаточно.
И маркизе пришлось приложить немало усилий, прежде чем удалось уговорить мать принять столько зерна, вина и дров, чтобы им с Кристиной не пришлось по-прежнему гнуть спины, словно нищенкам, в то время как она жила в богатстве. Некоторые вещи, ненужные в доме Роккавердина, перекочевали в пустые комнаты дома Муньос, чтобы придать им какой-то уют.
— О мама! Разве я могла бы чувствовать себя счастливой, зная, что вам с Кристиной плохо? Сделайте это ради меня, раз уж вы не хотите жить в нашем доме, как мы с маркизом вам предлагали.
Но когда душу ее начинал терзать, как наваждение, образ той, «другой», которая когда-то обедала, сидя напротив маркиза в той же столовой и, может быть, даже на том же месте, где теперь сидела она, которая спала если не на той же самой постели и в той же комнате, то уж во всяком случае под той же самой крышей и трогала своими руками то же белье и другие вещи, находившиеся на виду и наверняка напоминавшие о ней маркизу, то радости от сознания, что мать и сестра теперь тоже, как и она, живут в иных условиях, было уже недостаточно, чтобы заглушить тоску от коварной мысли, преследовавшей ее всякий раз, когда она оставалась одна, а особенно когда поглупевшая от старости кормилица Грация повторяла свою присказку:
— О, теперь на этот дом вновь снизошла благодать! Теперь воистину вошла сюда милость божия!
И огромное огорчение принес ей тот день, когда маркиз, услышав, как старуха в который раз повторяет эту присказку, зло накричал на нее:
— Тебе что, не о чем больше говорить? Так помолчи! Ты мне уже плешь проела этим своим благословением!
— Бедняжка! — вступилась маркиза.
И еще ей хотелось спросить: «Почему это вам так неприятно?»
26
В первые недели после женитьбы маркиз испытывал радостное чувство полного обновления своей жизни благодаря трем женщинам, оживлявшим своим присутствием комнаты, в которых вот уже больше года он не видел иной женской фигуры, кроме старой, скрюченной и растрепанной кормилицы, бродившей, шаркая шлепанцами, по дому и походившей скорее на привидение, чем на женщину.
Синьора Муньос и Кристина помогали маркизе придать обстановке, вещам, всему хозяйству тот уют, какой умеют создать в доме только женщины с их чутьем и вкусом. И маркизу казалось, что теперь весь его мрачный дом освещен другим светом, что он словно улыбается и едва ли не поет, — столь непривычно было для него слышать женские голоса то в одной, то в другой комнате, которые заполнял серебристый смех Кристины, своими звонкими переливами омолаживая все вокруг.
Когда же синьора Муньос и Кристина вернулись к себе, маркиз с огорчением должен был признать, что впечатление, будто произошло обновление, объяснялось главным образом присутствием в его доме почти чужих для него людей, в то время как в нем самом не изменилось ничего, а если и изменилось, то совсем немногое.
Во время первых откровенных разговоров с маркизом Цозима допустила неосторожность, рассказав ему о своем прошлом, о печальных годах, которые она провела в своей комнатке без малейшего проблеска даже отдаленной надежды, о сомнениях и опасениях, из-за которых она долго колебалась, прежде чем ответить на зов счастья, когда он попросил ее руки.
— Сумею ли я заставить вас забыть все это?
— Я уже все забыл, потому что вы со мной.
— Я хотела бы принести вам полное счастье… Я была увереннее, смелее тогда, когда ждала со дня на день, с минуты на минуту одного лишь слова, которое так и не слетело с ваших губ, а мне казалось, что я читаю его в ваших глазах.
— Вы не ошибаетесь. Я был робок. К тому же, тогда были живы мои отец и мать. Мне казалось, я не имею права ни выражать свои желания, ни принимать решения. Меня воспитали в абсолютном повиновении. А потом, когда я обрел полную свободу… когда смог делать то, что мне хочется, многое, очень многое изменилось. Я долгое время не видел вас. Наши семьи совсем перестали общаться… Тетушка, однако, верно говорит: «Браки совершаются на небесах». Так оно и случилось. Вы недовольны, что так случилось?
О, еще бы она была недовольна!
А он не мог не вспоминать, не сравнивать. И Цозима казалась ему слишком сдержанной, слишком холодной по сравнению с той, «другой», к которой невольно обращались его воспоминания. Он осуждал себя за это, словно за святотатство, но ничего не мог поделать, не мог прогнать призрак, вновь и вновь являвшийся ему, представавший перед ним с мельчайшими подробностями, отчего у него постепенно пробуждались и другие воспоминания, которые, как он считал, должны были бы покинуть его хотя бы потому, что Цозима стала его законной женой.
И когда маркиза мягко, ласково и уверенно повторяла ему: «Я сумею сделать так, что вы все забудете!» — ему становилось не по себе, и он терялся, пытаясь понять, что же она имеет в виду под этим словом «все».