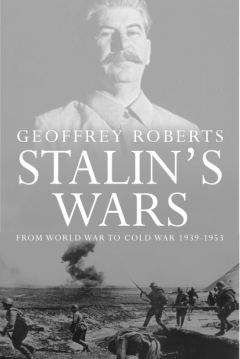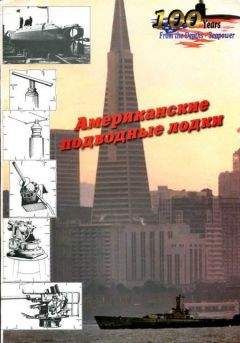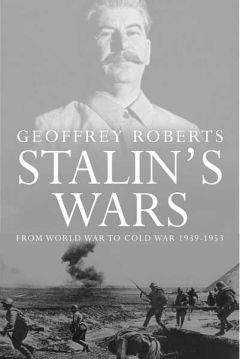Луиджи Капуана - Маркиз Роккавердина
— Вы недолюбливаете священников. По-моему, они такие же люди, как и мы. Почему у них тонзура? Почему служат мессу? Это их занятие. Я их слушаю, а потом… поступаю, как считаю нужным. Дон Аквиланте тоже недолюбливает священников. Однако и он несет всякий вздор, еще почище, чем они. Отныне и впредь я никого не хочу слушать. Поступайте, как я. Вот увидите, это удобно. Что случилось бы, если бы вы в свое время сочетались браком в церкви? Сейчас вы исправили эту ошибку, и я одобряю это.
— Чтобы угодить жене…
— Вы должны были угодить ей раньше, если вы любили ее. Вы испугались. Значит, если разобраться, даже вы не уверены…
— Хотел бы я посмотреть, что бы вы сделали на моем месте с этими проклятыми гландами! Я их удалю. Пустяковая операция, без боли и крови. Их захватывают каким-то инструментом, который одновременно и вырезает их, и выжигает. Минута — и все готово!
— Прекрасно!.. Но вы все-таки испугались!
Маркиз смеялся, довольный, что смог ужалить кузена и взять реванш за волнение, которое пережил в то утро, — от этой исповеди, от спектакля с мощами и всего прочего. Про себя же, возвращаясь домой, он с удовлетворением повторял:
«Я не собираюсь быть святым!»
25
Два месяца спустя Цозима Муньос, ставшая маркизой Роккавердина, все еще не могла до конца поверить в свое счастье, и не только потому, что оказалась в роскоши после унизительной нищеты своей обедневшей семьи, сколько потому, что свершилась наконец давняя мечта ее юности. Тайная мечта, самообольщение, а скорее, просто воспоминание, оставшееся с той поры, когда маркиз, еще совсем юный, пробудив в ее душе чувство своими поступками и словами, которые ввели ее в заблуждение и дали повод предположить, что он не решается прямо сказать ей то, о чем, ей казалось, она догадывается, отдалился от нее в тот самый момент, как ее семья внезапно разорилась, а потом привел в свой дом женщину, которой, считали все, суждено было рано или поздно занять в нем место, предназначенное, как она полагала, ей.
Она плакала в своей комнатушке, замкнулась в себе, но постоянно хранила в душе живейший образ того, кто впервые заставил ее сердце замирать от волнения. И посвятила себя этому воспоминанию, в уединении, без всякой надежды, не смея даже жаловаться на свою горькую судьбу, с удивительным смирением перенося все унижение нищеты, утешаясь лишь воспоминанием о тех далеких днях, тех месяцах, тех двух годах, когда множество мимолетных событий, незначительных вроде бы мелочей приятно кружили ей голову и озаряли улыбкой ее красивые губы и голубые глаза.
Так она и увяла, молясь каждый вечер за него; она была благодарна ему за утешение, о котором он, конечно, и не подозревал, благодарна за то, что может время от времени представлять себе, что могло бы произойти и не произошло и, как ей казалось, уже никогда не произойдет. Гордясь тем, что ни разу ни словом, ни жестом не выдала никому, сколь жива в ней эта иллюзия ее молодости, она разволновалась в тот день, когда баронесса Лагоморто осторожно дала ей понять, что и она, к сожалению, обманулась, рассчитывая увидеть ее в доме Роккавердина продолжательницей традиции святых женщин, хороших, добрых хозяек, о которых еще жива была память.
Святой была бабушка, маленькая толстенькая старушка, которая в последние годы жизни ходила к мессе, опираясь на палку, едва волоча ноги, и молилась на их фамильной скамье у амвона, которую никогда не должен был занимать никто из посторонних, для чего сиденье ее по окончании службы поднималось и запиралось на замок. Каждую пятницу по утрам добрая старушка ожидала у ворот дома своих бедняков, сидя в кожаном кресле, возле которого стояли два мешка, полные толсто нарезанных ломтей специально испеченного хлеба, и сама раздавала его подходящим к ней по очереди беднякам, одному говоря добрые слова, другому выдавая две порции, потому что у него большая семья, расспрашивая про кого-то, кто не явился, не заболел ли.
Святой была и ее мать, бабушка маркиза Антонио. Она всего натерпелась из-за похождений своего мужа. Хоть он и был отцом баронессы, она обычно говорила: «Истина превыше всего!» К тому же все знали, что ее бедная мать была мученицей! Живя среди борзых, ищеек и других охотничьих собак, среди вооруженных до зубов полевых сторожей с такими лицами, что страшно было смотреть, — они появлялись, исчезали, разыскиваемые жандармами, вскоре вновь появлялись уже без бороды, под другими именами, в других одеждах и должны были сопровождать хозяина повсюду в качестве телохранителей, — святая женщина дрожала перед мужем и вынуждена была делать добро тайком, потому что он не любил, чтобы его дом осаждали бедняки, как это случалось, когда еще была жива бабушка, которой нельзя было запретить поступать по-своему.
Святой, мученицей была и мать маркиза, потому что муж ее думал только о бегах борзых, одевался на английский манер и сорил деньгами на свои увлечения да на палермских актрис, вынуждая страдать от ревности и унижения доброе, ангельское создание, которому потом бог послал паралич, приковав к постели, где она и скончалась от истощения.
О! Когда баронесса начинала вспоминать о членах своей семьи, конца этому не было. При этом она была так откровенна и искренна, что можно было подумать, будто ей даже доставляет удовольствие показывать, что Роккавердина принадлежали к какой-то едва ли не особой породе людей, неважно, в плохом или хорошем смысле. Женщины, однако, все были святые, и, наверное, некоторую долю святости она приписывала и себе самой, когда думала о горестях, которые пришлось ей пережить из-за барона, ее мужа.
Цозима с живейшим интересом слушала рассуждения баронессы о семействе Роккавердина. И в этот вечер, когда на прощание баронесса шепнула ей на ухо: «Ах, дочь моя, кажется, бог услышал мои молитвы!» — и по интонации, по выражению глаз поняла, что та имеет в виду, она залилась краской и даже не смогла ответить, как хотела: «Почему вы так говорите?», стыдясь обнаружить, что сразу поняла, о чем идет речь.
С тех пор когда маркиз попросил ее руки, в течение долгих месяцев, прошедших между предложением и бракосочетанием, сколько она пережила тревог, сколько выплакала слез в тишине своей комнатки, думая о той, «другой», оставившей, наверное, глубокий след в душе маркиза, и сомневаясь, сможет ли она стереть этот след!
Она поделилась своими опасениями сперва с матерью, советуясь с нею, какой дать ответ, затем с баронессой, извиняясь за задержку с ответом, которая казалась той странной и необъяснимой.
Синьора Муньос рассердилась на дочь:
— Как? Ты ставишь себя на одну доску с какой-то дурной женщиной? Так низко ценишь себя, что думаешь, будто не сможешь заставить маркиза забыть ее? Но эти несчастные, дочь моя, не оставляют никаких следов. В самом деле, он ведь выдал ее замуж до того, как попросил твоей руки, и, наверное, думал о тебе. Так чего же ты опасаешься?
А баронесса сказала:
— Ты не права, дочь моя! Могу заверить тебя, что она совсем ушла из его сердца. Мой племянник даже слышать о ней не хочет. И если кто-нибудь упоминает ее имя, он тут же обрывает его.
И все же, как быть? Спустя два месяца, когда маркиза Роккавердина уже никак не могла сомневаться, что навсегда принадлежит тому, кто был мечтой ее юности, потому что видела, какой заботой, какой лаской он окружил ее, как искренно выражал свою покорность, она вновь почувствовала рождающиеся в душе приступы глухой ревности, которые столько лет втайне терзали ее, как будто именно эта ласковая заботливость, это выражение покорности еще более, чем все прочее, были вызваны стараниями маркиза скрыть истинное состояние своей души.
Кормилица Грация, увидев ее, когда она приехала из муниципалитета, чтобы получить благословение в домашней часовне, где со времени смерти маркизы-матери не проводилось ни одной службы, бросилась на колени, плача от радости, поцеловала пол, благодаря господа за утешение, которое он послал ей прежде, чем она навсегда закроет глаза, и воскликнула:
— Теперь на этот дом вновь ниспослана благодать! Теперь сюда вошла милость божия!
И в последующие дни бедная старуха, немного поглупевшая от старости, еще не раз повторяла это восклицание, и маркиза даже спросила ее:
— Почему? Что вы имеете в виду?
Грация отвела душу, рассказав обо всем, что заставляло ее молча страдать, боясь огорчить «сына маркиза», когда ей приходилось прислуживать той непрошеной гостье, явившейся хозяйничать сюда, где она была недостойна даже подметать комнаты!
— Не могу, правда, ничего плохого сказать про нее, — добавила старуха. — Она всегда меня уважала. И бог наказал бы меня, если б я сказала, что она была злой женщиной, что выгоды искала или тщеславной была! Нет, нет!.. Но ее место было не здесь. И я спрашивала ее: «Как же ты это сделала? Околдовала его, что ли?» А вот теперь у меня есть моя красавица хозяюшка! Теперь у меня есть красавица доченька, которая позволит мне называть себя так, потому что она жена того, кто почти что сын мне… Теперь на этот дом вновь ниспослана благодать. Смертный грех ушел прочь из него! Теперь сюда действительно вошла милость божия!