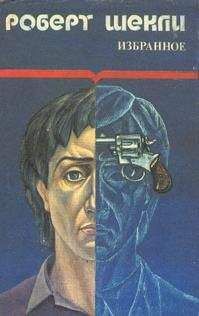Явдат Ильясов - Пятнистая смерть
Распаленный собственной речью, Фрада забыл о сакской мести.
Он шумно вздохнул — с обидой, глубокой, как его бездонная жадность, и жгучей, как его отцовская любовь. Глаза старейшины полыхали огнем. И дурацкая же вещь — удача! Кто ищет — находит пыль, кто не ищет, и даже искать не хочет — находит алмаз. Что за чертовщина!
Упустить счастье, которое само просится в руки… Болван Спаргапа. Дубина. Слюнтяй. Если б с Фрадой так возились! Старейшина с ненавистью и презрением отвернулся от сына Томруз. Подумать только! Ему насильно пихают в рот меду, а он плюется, стервец, вместо того, чтобы глотать.
Ух! Развернуться б сплеча да разнести вдребезги твой глупый череп обухом секиры. Он бешено стиснул мощный кулак и нанес жестокий удар. Но не кулаком — удар словесный:
— Не согласишься — издохнешь на костре и Райаду никогда больше не увидишь.
Кратко, со скрежетом, звякнули цепи, будто их связка, разом оборвавшись, грудой упала на камень — так сильно вздрогнул Спаргапа. Будто холодная искра прошла у него от затылка до пят. Будто разом раскрылись все поры тела.
— Так, — прошептал узник.
Вот до чего докатился Спаргапа.
Значит, и впрямь ты двуногий пес, животное, гнусная тварь, раз эти люди уверены, что тебя можно склонить к измене.
Честному человеку не предлагают мерзостей. Хугаве, например, они бы не посмели и словечка сказать из того, что бессовестно наговорили тебе. Да он и слушать не стал бы! А ты уши развесил, как осел у болота с громко квакающими лягушками.
Жизнь не удалась. „Что ж? Человек не только жизнью своей, но и смертью родному семейству, кровному роду и племени служить обязан“. О Райада. Райада. Райада.
— Я… согласен, — хмуро сказал Спар.
По шатру, точно сильный порыв степного ветра, пронесся вздох облегчения.
— Хвала тебе, сын мой Спаргапа! — радостно крикнул Куруш.
И все персы, ликуя, повторили за царем царей:
— Хвала!
Ах ты, Пятнистая смерть.
— Снимите оковы, — улыбнулся Спаргапа. „Человек не только жизнью своей, но и смертью…“ О Райада. Райада.
— Эй, снять оковы! — рявкнул Гау-Барува.
Цепи, загремев, распались, упали к ногам Спаргапы.
— Сын мой! — рыдал счастливый Фрада, припав к плечу молодого сака.
„Человек не только жизнью…“
О Райада.
Если тур падает, то с высоты.
Спаргапа выхватил у Фрады короткий меч и глубоко, по самую рукоять, всадил в брюхо изменника. Отступил на шаг, сделал мечом круговое движение и ловко вывернул внутренности Фрады наружу.
Не успели стражи подскочить к нему, как Спаргапа, крепко стиснув рукоять меча обеими руками, изо всех сил воткнул отточенный клинок себе в сердце.
Он попал в цель точно, метко и безошибочно, с первого удара.
Разве он мог промахнуться?
Спар хорошо знал, где у него сердце.
Так часто оно болело с тех пор, как он увидел впервые ненавистно-любимую Райаду…
Молодой сак умер мгновенно.
Зато Фрада мучился долго. Персы выволокли „собаку“ из шатра и бросили на краю поляны. Он корчился в луже крови и нечистот и хрипло стонал до позднего вечера.
Ночью его сожрали шакалы.
Последнее сказание
Жизнь и смерть
Пылало солнце, дул ветер Вайу. Сияла луна Гавчитра. В пустыне рыскала пустынная рысь, за барханами хоронился барханный кот. В пересохших извилистых речках-саях украдкой стучали копыта сайг. У солончаков, зияющих, как раны, кружились джейраны.
Барсы Парсы шли на Томруз.
Равнина. Песок. Песок. Песок. Тому, кто не видел страны за Аранхой, кажется, что песок — самое страшное в пустыне. Нет! Барханы — пышный сад песков, их цветник, заповедное место, где кипит жизнь.
Песок хорошо пропускает воду. Глина — плохо. Влага талых снегов и дождей, просочившись вниз сквозь барханы, скапливаются над слоем жирной глины. Она, эта влага, и питает летом растения.
Оранжев, ал или желт пушистый плод безлистного джузгуна, темно-лиловы цветы тонких акаций. Задует ветер — упруго замашет тамариск гребенчатыми лапами, заскрипит саксаул, лягут метелки селина.
Заклекочет орел — черепаха спрячется в панцирь.
Заклекочет орел — мгновенно исчезнет в песке, провалится, не сходя с места, удивительная змейка эфа; так часты, но незаметны колебания тела ее, что чудится — оно свободно уходит в песок, как медный прут в тихий поток.
Заклекочет орел — вскинется варан, распластавшийся в холодке. Поднимется, крупный, в четыре локтя длиною, раздуется, как бурдюк, выпрямит спину доской, раскроет пасть, зашипит, забьет хвостом из стороны в сторону.
Вараны охотно сосут коз.
«Не трогай варана, — говорят в пустыне. — Тот, кто прикоснется к „сосущему коз“, навсегда утратит мужскую силу».
В допотопном облике этой огромной ящерицы с ее полосатой кожей и нелепо растопыренными лапами, с уродливым брюхом, плоской головой и темными умными глазами, странного взгляда которых — никому не понять, воплотился образ самой пустыни — древней, загадочной, молчаливой и опасной.
Варан — холодный символ красных и черных песков, бесстрастный хранитель и страж их жутких тайн, забытых имен, мертвых преданий и живых суеверий.
Тут, в барханах, находят приют и еду, радость и беду орды всевозможных тварей, копошащихся и наверху, средь ветвей колючего кустарника, и внизу, на песке, и еще ниже, в норах.
Некуда ступить из-за обилия жуков и крупноголовых ящериц, соек и воробьев — особых, песчаных; буланых козодоев египетских и ушастых ежей, сусликов тонкопалых и тушканчиков мохноногих, гекконов большеглазых и гекконов гребнепалых.
Здесь рассадник змей — тонких, толстых, коротких, длинных, но одинаково свирепых; вялых, когда они сыты, и стремительных, как молния, когда хотят есть.
Это светлый сад, сад без густых и прохладных теней, где растения далеко отстоят друг от друга — редкий и редкостный сад диких равнин, насквозь, от края до края, пронизанный обжигающими лучами солнца.
Хуже в подвижных, сыпучих песках. Дюны бесплодны и голы, точно покров далеких мертвых планет. Трудно ходить человеку по дюнам — сделает двести шагов, погружаясь в горячий песок до колен, и упадет на него, обливаясь потоками пота.
Чуть шевельнется ветер — и закрутятся, обовьются дюны струями желтой пыли. Стада громоздких крутолобых дюн бесшумно бродят по мглистой пустыне. Вал за валом подступают они к притихшим от страха оазисам, жадно тянутся к трепещущим росткам пшеницы и хлопка.
Сыпучий бархан — зверь без клыков, когтей, скелета и мозга. Это чудовище тупое, всеядное и беспощадное. Оно опасней голодного льва, ибо не чувствует боли, не боится копья и стрелы.
Но и в сыпучих песках человек, обладающий хоть каплей воды и мужества, может подавить в себе чувство полного одиночества, потерянности и обреченности.
Что угнетает и убивает душу?
Однообразие.
А в сыпучих песках есть на чем остановиться глазу.
Подкова подветренной стороны бархана. Срезанный полумесяцем гребень. Длинный шевелящийся хвост.
Песчаный бугор, двигаясь, не выносит свой лоб вперед, а пятится назад, точно архаическое животное. Холмы, лощины. Высоты, низины. Лунной ночью барханы ослепительно белы, словно сугробы. Песок, подхваченный ветром, струится с шелковым шелестом, крутится, стелется у ног, как снежная пыль, уносимая поземкой.
Дюны похожи и непохожи друг на друга. Вид каждой дюны неповторим, как облик морской волны. И в этом — суровая, ущербная, леденящая кровь, усыпляющая красота сыпучих песков. Человек глядит на гряды перемещающихся дюн с тем же усталым, но неугасающим любопытством, с каким следит за рядами бесконечно перекатывающихся соленых океанских волн.
Хуже человеку на гладких, как скатерть, бескрайних глинистых площадях, поросших чахлой голубовато-серой полынью, чей ядовитый запах пропитал густо даже пыль, клубящуюся под ногами и над головой.
Еще хуже, гораздо хуже, в черной, как старое пожарище, нагой щебнистой гаммаде, где некрупная галька, заледеневшая студеной ночью, с треском лопается в знойный полдень, раскаленная чуть не докрасна жгучими лучами туранского солнца.
Но самое страшное место в пустыне — пухлый солончак, влажная, но рассыпчатая грязь, до отказа насыщенная солью, рвотное зелье, с отвратительным хрупаньем проваливающееся под стопою.
Пухлы солончак — мокрый лишай, гниющая рана, незаживающая язва пустыни.
Над тобою — немое небо, под тобою — безжизненный прах: кажется, будто один ты на всей земле. И не спасут и десять бурдюков свежей холодной воды, если в сердце закрылось отчаяние.
Велика и разнообразна — то ровна, то холмиста, то красна, то пятниста, то желта, то полосата, то безмолвна, то многоголоса пустыня, но во всех обличьях своих она одинаково ужасна.
И все же нашлись на свете люди, которых не испугала тишина солончаковых кладбищ, не устрашило змеиное шипение блуждающих дюн. Смело проникли они в изменчивую пустыню, освоили холмы и лощины. Пустыня стала их просторным, родным и любимым домом.