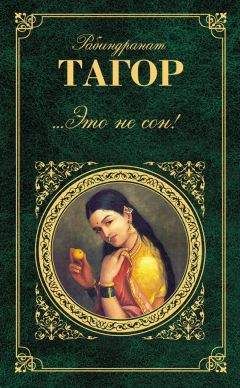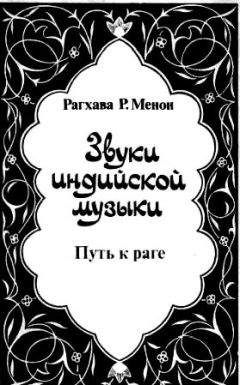Юрий Калещук - Непрочитанные письма
Подшибякин подмигнул красноносому парню и снова шепнул: «Может, у самого устья? А?..»
У самого устья ревело так, что даже наглухо завязанная ушанка, даже вата, которую я, по совету Зульфира, насовал в уши, не помогала — в голове звенело. Над раздрызганным превентором взмывала дрожащая голубоватая струя. «Вот сейчас, — подумал я, — откуда-нибудь с двух тысяч вынесет маленький камешек, песчинку даже, песчинка чиркнет об крышку этой кастрюли — и метров на сто пятьдесят взовьется факел. Красивый такой факелок. Далеко видно будет». На Варь-Егане, два года назад, я видел, что остается от буровой после газового выброса с пожаром. Да ничего не остается. Даже площадки, на которой стояла буровая, не осталось — был кратер диаметром метров в сто, наполненный горячей водой, из которого равномерно выплюхивал грязно-серый фонтан и взмывал к небу столб огня.
Мы раскрепляли превентор осторожно, расхаживая гайки деревянными колотушками.
Потом, скользя по мерзлой земле, раскачиваясь и вразброд ухая — все равно никто никого не слышал, — начали заводить на искалеченный превентор тросы с четырех концов.
Выше лебедки буровая была залита окаменевшим уже раствором, над головой болтался, покачиваемый ветром, наполовину оборванный плакат: «Не загромождайте приемный мо...» Загромождать было нечего.
Метрах в тридцати от устья, по вершинам неправильного квадрата, стояли на санях четыре ручные лебедки. Остывшие тракторы, словно якоря, удерживали сани на месте.
Когда тросы были закреплены, Григорьев что-то крикнул. Скорее всего, прокричал свое любимое: «Валите вы все к чертовой матери!»
Мы отошли к флажкам. Подшибякин стоял рядом. Я был в экспедиции его отца в тот год, когда разлившаяся река затопила вертолетные площадки и Василий Тихонович повел к разведочным буровым караван судов — по протокам, по рукавам, по перекатам, через кусты и чапыжник. Столько прошло времени, но мне не забыть, как забрызганный грязью водомет, переползая через отмели, притулился к высокому берегу, на котором стояла буровая Сани Анищенко, и Подшибякин, спрыгнув с палубы, невозмутимо побрел по густой воде...
— Я знал вашего отца, Слава, — сказал я Подшибякину.
— Отца? Отца все знают... — вздохнул Подшибякин и уткнулся взглядом в устье тринадцатой буровой.
Возле устья оставался один Григорьев. Есть жуткие кадры, снятые, кажется, на Уренгойском выбросе: во время замены превентора, в тот самый миг, когда у устья оставался один только Григорьев, вспыхнул газ — и Григорьев бежит на этих кадрах сорок метров в сплошном море огня.
Мы стояли у флажков и напряженно вглядывались в маленькую фигурку у подножья вышки. Григорьев легко перебегал от троса к тросу, трогал его рукой, стараясь определить натяжение, — нет, не стараясь определить, а определяя, потому что превентор неожиданно вздрогнул, приподнялся над устьем и ровнехонько застыл, словно в стоп-кадре.
Григорьев махнул рукой. Две лебедки стали работать на отдачу, а две — продолжали тянуть к себе.
Превентор, легко съехав по невидимой горке, плавно лег набок.
— Все сработали хорошо, — сказал Григорьев, подойдя к флажкам. — Отдыхайте. Теперь будем ждать самолет.
Мы вернулись к балкам. Метель утихла. Выщербленный остов буровой врезался в вечереющее небо. Вдали виднелась наша «десятка» — мрачное покосившееся надгробье.
— Вот так, — грустно сказал «товарищ молодой специалист». — Всего тридцать два метра оставалось...
— Спешили, значит? — усмехнулся Григорьев.
— Спешили.
...Год назад, догорающей осенью возвращаясь с БАМа, мы с товарищем мчались на попутной машине от Янканского перевала в Тахтамыгду. Через этот маленький аэропорт проходил один раз в сутки на Иркутск, на перекресток больших авиадорог, тихоходный самолетик. Мы не знали точно время отлета и изнывали от нетерпения на бесконечно петляющей горной дороге. Увидев в сумерках силуэт самолета, стоявшего на площадке перед вокзальчиком, мы вздохнули с облегчением: успели. Не достучавшись в запертые двери зала ожидания, обошли темное здание и воровато выбрались на летное поле, спеша к самолету. Глухо и призывно звучали авиамоторы, поднимая из глубин памяти пройденные и не пройденные маршруты, потом раздался протяжный свист, и над низкими сопками показались зеленые и красные бортовые огни. Наш самолет неподвижно стоял на земле.
— Может, это модель? — предположил мой товарищ.
Мы подошли ближе. Тяжелые крылья нависали над нашими головами. Внизу, под лоснящимся от росы брюхом самолета, торчали вместо шасси деревянные колодки, врытые в землю...
— Человек не собака, — неожиданно сказал Григорьев. — Это собаку ничего не стоит научить закрывать превентор при первых признаках выброса. А человек — это человек. У него нервы есть. У него воображение есть... И хорошо, что есть воображение. Только вообразить себя букашкой легко. А нужно оставаться человеком. Даже в воображении. Понимаете?
— Загубили мы скважину. Так и не узнаем теперь, есть ли здесь нефть.
— Ну, нет, — отрезал Григорьев. — Это мы еще посмотрим, кто здесь кого.
Слежу за черной отметкой, нанесенной маслом на бока квадрата, и кажется, что за час она не приблизилась к ротору ни на сантиметр. Хочется, чтобы скорее начиналась эта мука, которая называется «спуск колонны», и другая мука, которая носит шипящее имя «цементаж». Хочется, чтобы был результат. И не просто метры проходки, не только завершенная строительством скважина, нет: нужны вещественные доказательства залегания нефти под этим снегом, под этим мерзлым мхом, под этой окоченевшей землей. Желать такого итога, пожалуй, нелогично, да и неграмотно: наша буровая стоит на кровле пласта, проектный горизонт ее не так уж глубок, и у скважины прозаические задачи. Как у саперов, которые провожают разведчиков в поиск. Их дело — обеспечить надежный проход через минное поле, а таинственный и опасный рейд, исчезновение или слава — это уже другим, тем, кто идет следом и бесшумно растворяется в ночи. Но сейчас, сегодня нет другой буровой на западном берегу Ямала — умолкла на полуслове десятая, погибла тринадцатая. Осталась лишь наша, седьмая, и хочется, чтобы был результат, чтобы была удача. Это нужно не только нам — этого ждут на «горке», в Тюмени и Салехарде, Гиждуване и Грозном, в Москве и на Мысу Каменном.
До проектного горизонта еще триста пятьдесят метров, а масляная отметка застыла на уровне глаз.
— Зови Макарова, — говорит Гриша.
Бегу к насосам, но Вовка и сам уже идет навстречу, деловито оглядывая мелеющие желоба; за ним, не отставая и не обгоняя, степенно вышагивает Солдатик. Когда я рассказывал про тринадцатый, Вовка спросил: «А этому Григорьеву — ему сколько лет?» И еще спросил: «Он так и сказал? Так и сказал?» А Шиков заметил: «Григорьев — это Григорьев. У него имя, авторитет... Он кому угодно и что угодно скажет». Но Вовка Макаров заявил: «Если б он молчал всегда — не было бы у него ни имени, ни авторитета. Нет, с этим мужиком я пошел бы в разведку». — «Он и был разведчиком. На фронте». — «Вот видишь!..»
— Подъем? — спрашивает Вовка Макаров.
— Пора менять долото.
Кажется, в следующие шесть часов мы не сказали друг другу ни слова. Легкие руки Вовки Макарова, мелькающие на двадцатипятиметровой высоте, старательные действия Солдатика, строгое изящество движений Гриши в замкнутом пространстве от тормоза лебедки до пульта автоматического ключа, рваный ритм грохота дизелей, диктуемый стремительным ритмом подъема и короткими паузами, когда мы доливали скважину раствором, ровные шеренги труб на подсвечнике. Семьдесят две свечи, поднятые с забоя, едва успев остыть, снова ушли в ствол, и квадрат, набирая скорость вращения, стал медленно укорачиваться, исчезать в скважине, подталкивая инструмент к проектному горизонту.
— До смены еще полчаса побурим, — хрипло говорит Вовка.
— Тридцать пять минут, — уточняет Гриша, поглядев на часы.
Что такое нефть?
Комбинация углеводородов, содержащая кислородные, сернистые и азотные соединения.
Говорят, через сто лет запасы нефти на земле иссякнут. Быть может, через два столетия забудут само слово «нефть», останется лишь комбинация углеводородов, содержащая кислородные, сернистые и азотные соединения...
И все же в эту формулу ворвутся, расталкивая привычные ядерные связи, наши несбывшиеся мечты и неудовлетворенное тщеславие, мгновения удач и полосы разочарований, терпеливое ожидание и яростное нетерпение, тревоги и надежды, наши солнечные ночи и жаркие черные дни на берегу холодного моря.
— Давай, Гриша!
— От винта, нам что-нибудь оставь, — насмешливо басит Морозов. Пришла смена. — Какой забой?
— Тысяча семьсот восемьдесят пять метров тридцать пять сантиметров.
— Тысяча семьсот восемьдесят пять метров и тридцать пять сантиметров, — серьезно повторяет Морозов. — Вахту принял. Точка.
Обложившись рюкзаками и тесно прижавшись друг к другу, мы сидим в темном чреве вездехода, а он мчится, раскачиваясь, по снежной целине. «Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес свою парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи». Вот уже тридцать лет вспоминается мне эта школьная фраза из Станюковича, и каждый раз я открываю в ней необъятность пространства и тайну движения. Час назад мы собирались на вахту, но пришел Володя Шиков и, стараясь казаться равнодушно-веселым, сообщил: самолет вышел из Тюмени, нашей вахте пора лететь на отгулы — вездеход ждет нас. Калязину он сказал, чтобы тот тоже собирался: отставший от своей вахты бурильщик Гена Ослин наконец-то объявился на «горке». Солдатик молча и безучастно наблюдал за нашей предотъездной суматохой, а Гриша строго заметил: «Ты чего сидишь? Ты же в нашей вахте. А мы всегда все вместе. Понял, да?» И Солдатик бросился переодеваться. Все было так поспешно и буднично, что даже сейчас мы молчим в этом зыбком грохочущем мраке, и только огоньки раскуриваемых сигарет на мгновение обозначают лица. Я чувствую рядом чужие спины и плечи. Хотя нет, не чужие — и теперь я знаю это наверняка.