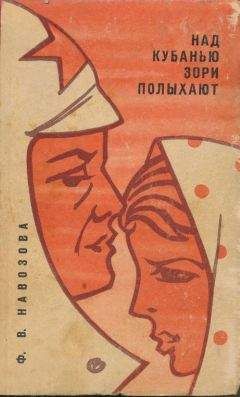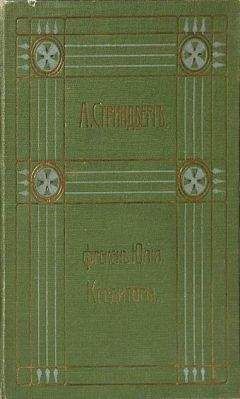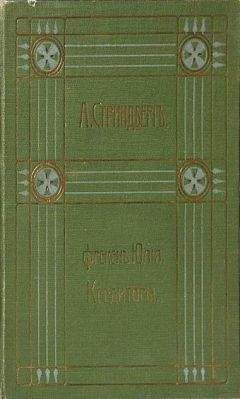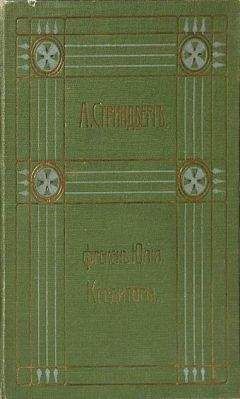Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 4. Красная комната
— Не может быть, чтобы это было ваше мнение!
— Это мое мнение, но отсюда еще не следует, что оно справедливо.
— Неужели же у вас, действительно, нет никакого уважения к вашему искусству?
— К моему? Почему бы мне мое искусство уважать больше чем чужое?
— И вы играли глубочайшие роли; вы играли Шекспира? Вы играли Гамлета? Неужели же вы никогда не были глубоко потрясены, произнося монолог «Быть или не быть»?
— Что вы подразумеваете под глубиной?
— Глубокомысленное, глубоко задуманное!
— Говорите яснее!! Глубокомысленно ли будет сказать так! «Покончить ли мне с жизнью или нет? Я охотно сделал бы это, если бы знал, что бывает после смерти, и это сделали бы и все другие; но мы не знаем этого и потому не лишаем себя жизни». Это глубокомысленно?
— Нет, не очень!
— Ну, вот! Вы наверно уже думали когда-нибудь о том, чтобы лишить себя жизни! Не правда ли?
— Да, это, должно быть, бывало со всеми.
— Почему же вы не сделали этого? Потому что вы, подобно Гамлету, не могли решиться, не зная, что будет потом. Были ли вы так глубокомысленны?
— Конечно, нет!
— Значит, это просто банальность! Одним слово это… как это называется, Густав?
— Это старо! — прозвучало в ответ от часов, где, казалось, ожидали реплики.
— Это старо! Но если бы поэт явился с допустимым предположением о будущей жизни, тогда это было бы ново!
— Разве всё новое так превосходно? — спросил Ренгьельм, который весьма упал духом от всего нового, что ему пришлось услышать.
— У нового, по меньшей мере, одна заслуга, именно та, что оно ново! Попытайтесь продумывать собственные мысли и вы их всегда найдете новыми! Поверите ли, что я знал, прежде чем вы вошли в дверь, о чём вы спросите, и что я знаю, о чём вы меня спросите теперь, когда мы дошли до Шекспира.
— Вы странный человек; я должен сознаться, что вы правы в том, что говорите, хотя я и не могу согласиться с этим.
— Ну-с, что вы думаете о речи Антония у тела Цезаря? Разве она не замечательна?
— Об этом я как раз хотел вас спросить! Вы как будто читаете мои мысли!
— Ведь я вам это только что сказал. Да и странно ли это, когда все люди думают одно и то же, или, по меньшей мере, говорят одно и тоже? Что же вы в ней находите глубокого?
— Этого нельзя сказать словами…
— Разве вы не находите, что это обычная форма для иронической речи? Говорят как раз противоположное тому, что думают, и если наточить острия, то каждый о них уколется. — Но читали ли вы что-нибудь более прекрасное, чем диалог Ромео и Джульетты после брачной ночи?
— Ах, то место, где он говорит, что он соловей а не ласточка.
— О каком же еще месте говорить мне, когда весь мир говорит об этом? Ведь это отдельный и часто употребляемый поэтический образ, на котором основан эффект; а разве вы думаете, что величие Шекспира покоится на поэтических образах?
— Зачем вы разрушаете всё в моих глазах? Зачем отнимаете вы у меня мою опору?
— Я отнимаю у вас костыли, чтобы вы сами учились ходить! Впрочем, я прошу вас согласиться с тем, что я говорю.
— Вы не просите, вы заставляете делать это.
— Тогда вы должны избегать моего общества. Ваши родители огорчены вашим шагом?
— Да, конечно! Откуда вы знаете это?
— Это делают все родители! Зачем преувеличиваете вы мою способность к суждениям? Вы вообще не должны ничего преувеличивать!
— Разве от этого будешь счастливее?
— Счастливее? Гм!.. Знаете ли вы человека, который счастлив? Ответьте по собственному усмотрению, а не чужими словами.
— Нет!
— Если вы не верите, что кто-либо может быть счастливым, так зачем же вы задаете вопрос о том, можно ли стать счастливее? Так у вас есть родители! Это глупо иметь родителей.
— Как так?
— Не находите ли вы неестественным, что старое поколение воспитывает новое своими устарелыми глупостями? Ваши родители требуют от вас благодарности? Не так ли?
— Разве не надо быть благодарным родителям?
— Благодарным за то, что они, опираясь на законы, родили нас на эту юдоль скорби, кормили плохой пищей, били, унижали, противились нашим желаньям? Поверите ли вы мне, что нужна революция? Нет, целых две! Почему вы не пьете абсента! Вы боитесь его? О, взгляните, — на нём красный женевский крест! Он исцеляет раненых на поле битвы, друзей и врагов; он заглушает боль, притупляет мысли, угашает воспоминания, душит все благородные чувства, соблазняющие человека на безумие. Знаете ли вы, что такое свет разума? Это, во-первых, фраза, во-вторых, блуждающий огонек, призрак; вы знаете эти места, где сгнила рыба и выделяется фосфорный водород; свет разума — фосфорный водород, выделенный серым мозговым веществом.
Удивительно всё хорошее здесь на земле погибает и забывается. Я прочел за время моих десятилетних скитаний и моей кажущейся бездеятельности всё, что было в библиотеках маленьких городов. Всё жалкое и незначительное из этих книг цитируется; но хорошее лежит в забвение Да, что я хотел сказать, напоминайте мне, чтобы я держался темы…
Часы опять взбудоражились и прогромыхали семь раз. Дверь отворилась, и с большим шумом ворвался человек. Это был человек лет пятидесяти, с большой, тяжелой головой, которая покоилась на жирных плечах, как мортира на лафете с постоянным подъемом в 45°, и имела вид, как будто собирается выпаливать бомбы к звездам. Лицо имело такой вид, как будто его носитель был способен на всевозможные преступления и пороки и удержался от них только благодаря трусости. Он тотчас же метнул гранатой в мрачного и потребовал у кельнера грог из рома, грубо и голосом капрала.
— В руках его ваша судьба, — прошептал мрачный Ренгьельму. — Это драматург, директор и заведующий театром, мой смертельный враг.
Ренгьельм содрогнулся, оглядывая страшную фигуру, обменявшуюся с Фаландером взглядом глубочайшей ненависти и теперь обстреливавшую проход плевками.
После этого дверь открылась снова, и вошел почти изысканно изящный человек средних лет с напомаженными волосами и нафабренными усами. Он дружески уселся рядом с директором, который протянул ему в знак привета средний палец с перстнем.
— Это редактор консервативной газеты, защитник алтаря и трона. Он имеет свободный доступ за кулисы и хотел бы соблазнить всех девушек, на которых не загляделся директор. Он был раньше чиновником, ко ему пришлось оставить свое место, я стыжусь сказать вам почему, — объяснил Фаландер Ренгьельму. — Но я стыжусь также, сидеть в одной комнате с этими господами и кроме того я сегодня вечером даю здесь в доме маленький банкет в честь моего вчерашнего бенефиса. Если у вас есть охота быть в плохом обществе, среди последних актеров, двух дам с плохою славой и старого проходимца, тогда прошу вас к восьми!
Ренгьельм не колебался ни минуты принять приглашение.
Паук у стены пробрался сквозь свою сеть, как бы для того, чтобы испытать её прочность, и исчез. Муха еще посидела некоторое время. Но солнце спряталось за собором, петли сети раскрылись, исчезли, как будто их никогда и не было, и тополя перед окном задрожали. Тогда раздался голос великого человека и театрального директора, который закричал (говорить он давно разучился):
— Читал ты, как еженедельник опять нападает на меня?
— Ах, на эту болтовню тебе нечего обращать внимания!
— Не обращать внимания! Что, чёрт дери, хочешь ты сказать? Разве его не читает весь город? Конечно! Я хотел бы зайти туда и вздуть его, вот что я хотел бы! Он нагло утверждает, что у меня нет искренности и что я аффектирован.
— Подкупи его! Но не делай скандала!
— Подкупить? Ты думаешь, я не пытался? Это дьявольски страшные люди, эти либеральные газетчики. Когда их знаешь и дружишь с ними, они могут написать о тебе очень хорошо; но подкупить их никак нельзя, как бы бедны они ни были.
— Ах, ты просто не умеешь! Не надо прямо делать этого; надо посылать им подарки или деньги анонимно, не показывая и виду!
— Как делают с тобой! Нет, брат, это с ними не пройдет; я пробовал! Адская мука иметь дело с убежденными людьми!
— Что это за жертва, как подумаешь, была в когтях у чёрта? (Перемена темы).
— Это меня не касается.
— А, может быть, все-таки! Густав! Кто был этот господин с Фаландером?
— Он хочет поступить в театр, и фамилия его Ренгьельм.
— Что ты говоришь? Он хочет в театр? Он? — закричал директор.
— Да, он этого хочет! — отвечал Густав.
— И кончено играть трагедию? И быть под покровительством Фаландера? И не обращаться ко мне? И взять мои роли? И оказать нам честь? И я ни слова об этом не знаю? Я? Я? Мне жаль его! Какая страшная будущность! Я буду покровительствовать ему! Я возьму его под свое крыло! Чувствуется сила моих крыльев, хотя я и не летаю! Они иногда придавливают! Это был красивый: малый! Красив, как Ангиной! Жаль, что не пришел сперва ко мне! Он получил бы все роли Фаландера, все роли! О, о, о! Но еще не поздно! Пусть чёрт испортит его сперва! Он еще слишком свеж! Право же у него был неиспорченный вид! Бедный малый! Я скажу одно только: спаси его Бог!