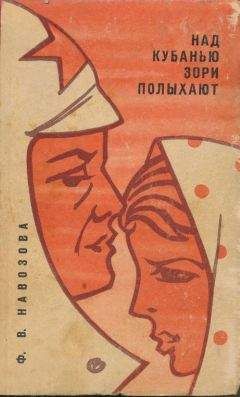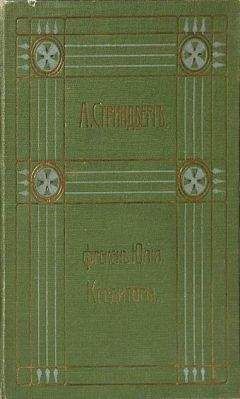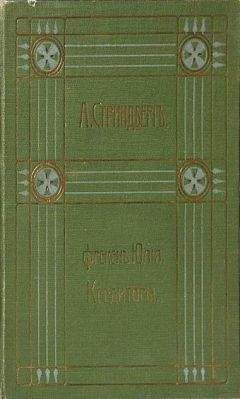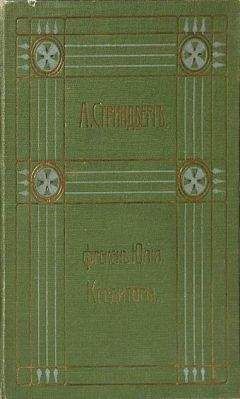Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 4. Красная комната
Звуки последних слов потонули в шуме, который подымали теперь пришедшие пить грог горожане.
ХV
На другой день Ренгьельм проснулся поздно в своей кровати в гостинице. Воспоминания истекшей ночи подымались, как призраки, и окружали его постель в светлый летний день.
Он видел красивую, богато украшенную цветами, комнату с закрытыми ставнями, в которой происходила оргия. Он видел тридцатипятилетнюю артистку, которой соперница навязала роли матерей; она входит в отчаянии и бешенстве от новых унижений, напивается и кладет ноги на диван, и когда в комнате становится слишком тепло, она расстегивает лиф с такой же непринужденностью, с какой мужчина расстегнул бы жилет после плотной трапезы.
Вот старый комик, которому рано пришлось покинуть амплуа любовников и после краткого цветения опуститься до выходных ролей; теперь он развлекает мещан своими песнями и, главным образом, рассказами о своем прежнем величии.
Посреди облаков дыма и пьяных картин Ренгьельм видит молодую ingenue, которая приходит со слезами на глазах и рассказывает мрачному Фаландеру, как директор опять делал ей гнусные предложения, и когда она отказалась, поклялся, что он отомстит тем, что отныне она получит только роли горничных.
И он видит, как Фаландер принимает жалобы и тревоги всех, и как они исчезают от его дуновения; как он превращает в ничто всё: обиды, унижения, удары ослиного копыта, несчастья, нужду и горе; как он поучает друзей своих ничего не преувеличивать, в особенности же заботы.
Но опять и опять видит он маленькую ingenue с невинным личиком, другом которой он стал и от которой при прощании он получил поцелуй, горячий, страстный поцелуй; правда, горячая голова его вспоминала теперь, что это вышло несколько неожиданно. Но как ее звали-то?
Он встает, чтобы взять графин, и в руки ему попадается маленький носовой платок с пятнами от вина. На нём неизгладимо написано тушью: Агнеса! Он целует его дважды в более чистые места и прячет его в свой чемодан.
Потом он заботливо одевается, чтобы пойти к директору, которого всего вернее можно застать между двенадцатью и тремя.
Чтобы не упрекать себя потом, он в двенадцать часов уже в дирекции, но застает там только сторожа, который его спрашивает о его деле и предлагает свои услуги.
Ренгьельму это не нужно; он спрашивает, нельзя ли видеть директора; тут он узнает, что директор сейчас на фабрике, но должен прийти до обеда.
Ренгьельм думает, что фабрика — фамильярная кличка театра, но узнает, что директор имеет спичечную фабрику. Его зять, кассир, занят на почтамте и не появляется, обыкновенно, до двух часов; сын того, секретарь, занят на телеграфе и поэтому его никогда нельзя застать наверняка. Но, так как сторож понимает цель прихода Ренгьельма, то он передает ему от своего имени и от имени театра экземпляр статутов театра; этот молодой дебютант может скоротать время до прихода кого-нибудь из дирекции.
Ренгьельем вооружился терпеньем и сел на диван изучать устав. Когда он прочел его, было еще только полчаса первого. Потом он проболтал со сторожем до сорока пяти минут первого. Потом он сел, чтобы проникнуть в глубину первого параграфа устава:
«Театр есть нравственное учреждение, почему члены его должны стремиться жить в страхе Божием, добродетели и хороших нравах».
Он вертел фразу во все стороны и старался придать ей надлежащее освещение, но тщетно. Если театр нравственное учреждение, то не надо членам его, которые (на ряду с директором, кассиром, секретарем, машинами и декорациями) составляют это учреждение, стремиться ко всем этим хорошим вещам, как бы они ни назывались. Если бы было написано: «Театр безнравственное учреждение, и потому»… да, тогда бы был смысл; но таковой цели, конечно, директор не имел.
Он вспомнил «слова, слова» Гамлета, но тотчас же вспомнил, что старо цитировать Гамлета и что надо выражать свои мысли своими словами; он остановился на том, что это болтовня.
Второй параграф помог ему убить еще четверть часа на рассуждения по поводу текста: «Театр никоим образом не для удовольствия, не для одного наслаждения». Здесь говорилось: театр не для удовольствия, и дальше: театр не исключительно для удовольствия, следовательно, он (также и) для удовольствия.
Потом он стал думать о том, когда театр доставляет удовольствие. Да, удовольствие было, когда можно было видеть, как дети, в особенности сыновья, обманывали из-за денег своих родителей, в особенности если родители были добродушны, экономны и благоразумны; потом, когда жены обманывали мужей; в особенности это приятно, когда муж стар и нуждается в помощи своей жены. Потом он вспомнил, что очень смеялся над двумя стариками, которые чуть было не умерли с голоду, потому что их дела пришли в упадок; и что еще сегодня над ними смеются в произведении классического писателя. Ему припомнилось также, что его забавляло несчастье старого человека, утратившего, слух, и что он вместе с шестьюстами людей очень веселился по поводу монаха, который пытался естественным путем лечить безумие, в которое его ввергло воздержание, и в особенности по поводу лицемерия, с каким он умел достигать своей цели.
— Над чем же смеются? — спросил он себя. И, так как ему больше нечего было делать, то он попытался ответить на это: — Над несчастьем, нуждой, пороком, добродетелью, поражением добра, победой зла.
Этот результат, который был для него отчасти нов, привел его в хорошее настроение, и он находил большое удовольствие в игре мыслей. Так как дирекции еще не было слышно, он продолжал игру, и не прошло еще пяти минут, как он пришел к результату: в трагедии плачут как раз над тем же, над чем смеются в комедии.
Но тут он остановился, потому что влетел главный директор, пролетел мимо Ренгьельма, не подавая вида, что заметил его, и бросился в комнату налево, откуда через мгновения раздался звук звонка, сотрясаемого сильной рукой. Сторожу понадобилось только полминуты, на то, чтобы войти и выйти с объяснением, что его высочество принимает.
Когда Ренгьельм вошел, директор уже повернул свою мортиру в такой угол, что никак не мог видеть смертного, который вошел с трепетом. Но он, должно быть, услышал его, потому что тотчас спросил в оскорбительном тоне, что ему нужно.
Ренгьельм объявил, что он просит дебюта.
— Как? Большого дебюта? Большого восторга? Есть ли у вас репертуар, сударь? Играли ли Гамлета, Лира, Ричарда, Шеридана; десять раз вызывали после третьего акта? А? Что?
— Я еще ни разу не выступал.
— Ах, так! Ну это нечто иное!
Он сел в посеребренное кресло, обитое голубым шелком, и на лице его появилась маска, как будто оно должно было служить иллюстрацией к одной из биографий Светония.
— Можно ли вам сказать искреннее мнение? А? Бросьте эту карьеру!
— Невозможно.
— Я повторяю: бросьте эту карьеру! Эта самая ужасная из всех! Она полна унижений, неприятностей, уколов, терний, которые, поверьте мне, так отравят вам, сударь, жизнь, что вы пожалеете о том, что родились!
Он говорил поистине убедительно, но Ренгьельм был непоколебим в своем решении.
— Ну-с, тогда запомните мои слова! Я торжественно советую вам бросить и предупреждаю вас, что вы несколько лет можете пробыть статистом! Обдумайте это! И потом не приходите ко мне и не жалуйтесь! Эта карьера так адски тяжела, что вы никогда не избрали бы ее, если бы знали её тяжесть! Вы вступаете в ад, поверьте мне! Я сказал.
Но эти слова были напрасны.
— Не предпочтете ли вы ангажемент без дебюта? Тогда риск меньше.
— Да, конечно, этого я совсем не ожидал.
— Тогда подпишите, пожалуйста, этот контракт. Тысячу двести, кроме жалованья, и контракт на два года! Ладно?
Он вынул из-под промокательной бумаги написанный и подписанный дирекцией контракт и дал его Ренгьельму; у того голова закружилась от тысячи двухсот крон, и он подписал договор, не взглянув на него.
Когда это случилось, директор подал ему свой большой средний палец с перстнями и сказал: «Милости просим!» При этом он обнажил верхнюю десну и желтые, налитые кровью белки глаз с зрачками цвета зеленого мыла.
Этим аудиенция закончилась. Но Ренгьельм, для которого всё произошло слишком скоро, еще оставался и взял на себя смелость спросить, не подождать ли ему, пока соберется дирекция.
— Дирекция? — выпалил великий трагик. — Это я! Если он хочет спросить что-нибудь, пусть обращается ко мне! Если ему нужен совет, то пусть обращается ко мне! Ко мне, сударь! Ни к кому другому! Так! Марш!
Казалось, что пола сюртука Ренгьельма зацепилась за гвоздь в тот момент, когда он собирался выйти; тогда он внезапно остановился и обернулся, чтобы посмотреть, какой вид имеют последние слова, но он увидел только красную десну, похожую на орудие пытки, и глаз с кровавыми жилками, вследствие чего он не испытал никакой охоты требовать объяснения, но поспешил в ресторан, чтобы пообедать и встретить Фаландера.