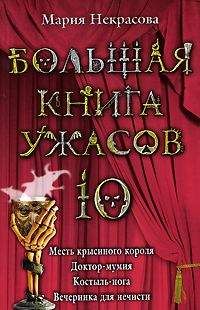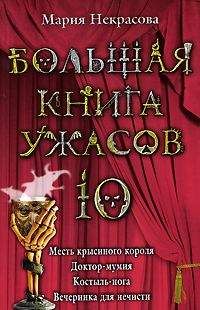Гвин Томас - Всё изменяет тебе
— Вряд ли он так думает.
— Сказал ты ему, что оставаться здесь значит испытывать судьбу?
— Это не приходит ему в голову, Лимюэл.
— Во всем виновата Кэтрин. Околдовала его — вот он и стал беспомощным и бессловесным.
— И опять ты ошибся, Лимюэл. Если Джон Саймон и Мунли окончательно сведут друг с другом счеты и от нас с тобой еще останется что — нибудь, помимо горсточки пепла и чуточки ночного мрака, напомни мне об этом. Мы тогда заново разберем с тобой все дело с самого начала. Джон Саймон по — особому чувствует жизнь — вот это и отнимает у него покой. А мы с тобой, Лимюэл, мы только частицы этого чувства; все помыслы Джона Саймона об одном — о свободе множества людей. Если бы вся суть была только в колдовстве Кэтрин Брайер, все было бы просто. Все его тревоги кончились бы и он отдался бы чистосердечной радости, как баран, а я был бы тут как тут, у самой загородки бараньего загона, чтоб подбодрить и встряхнуть его, если он начнет сдавать. И получал бы от тебя и Пенбори премию за каждый день сытого покоя, в котором мне удалось бы удержать его. Для Джона Саймона все мы — ты, я и Пенбори — кучка убогих, чужих людей. И мы действительно убоги: ты — со своими грошевыми расчетами, а я — с постоянным и оглушительным перезвоном себялюбивых чувств и мыслей. У нас нечем порадовать его. Сам он — один из тех, кто страдает новым недугом: пробуждением сознательности, от которой все мы раньше или позже пропадем, как мухи. Ты слишком ничтожен от рождения, а я слишком шумлив, чтобы оказать какое — нибудь влияние на ход дела. Но сегодня вечером мы еще вольны шуметь и безобразничать в наше полное удовольствие. Где же арфа, на которой я буду играть?
— Двое слуг несут ее из господского дома.
— А, вот и они! И с ними много народу. И у всех такой радостный вид, что моим глазам приятно смотреть на них.
На незастроенную площадку высыпала толпа вслед за двумя рослыми слугами, несшими пенборовскую арфу. Они несли ее с такой почтительной осторожностью, словно предмет культа.
— Музыки здесь, верно, всегда было не очень — то много, а? — спросил я Стивенса.
— Не много. Мистер Пенбори первый всегда возражал против нее. В Мунли спокон веку жили серьезные, трудолюбивые люди. До прошлого года в нашем краю нельзя было найти другого такого горнорудного поселка.
В толпе было много людей, одетых в свои лучшие, темные костюмы, но в лицах, жестах и движениях их проглядывала какая — то тревога, которой никак нельзя было объяснить желанием послушать меня. Вот появился и Феликс, как всегда, пылая усердием, в сопровождении своего отца, несущего футляр со скрипкой. Их встретили шумными приветствиями. Феликса это испугало, но мистер Джеймисон раскланивался, расточал улыбки и, по — види- мому, испытывал на себе животворное действие радости, этого лучшего бальзама.
Нас ввели на небольшую эстраду и мы уже совсем было собрались начинать, как вдруг появился мистер Боуэн. На нем была хорошо пригнанная по фигуре черная пара с лацканами из еще более черного, приятно поблескивавшего шелка. Он приблизился к эстраде с каким — то толстым фолиантом в руках — не то библией, не то псалтырем. Глядя на него, я впервые понял, что находящаяся перед нами толпа явственно делится на несколько прослоек. Большая группа мужчин и женщин расположилась непосредственно у самой эстрады: они были так тщательно и солидно одеты, как будто собрались на похороны высшего разряда. Как только они заметили, что мистер Боуэн направляется в их сторону, они расступились и дали ему пройти. То были смиренные, податливые люди, угнетенные мрачными слухами о нависшем кризисе и предстоящей борьбе. Они, казалось, надеялись обезоружить людей и обстоятельства льстивой улыбкой, от которой конфликт сам собой испарится.
За ними стояли нерешительные, колеблющиеся. Их взоры все время блуждали; эти люди, истомленные непривычной для них работой сознания, настороженно следили за всем происходящим в надежде что — то нащупать, уловить какой — то знак, который дал бы им ощущение устойчивости, послужил надежным ориентиром. Последние ряды толпы состояли из элементов, настроенных явно враждебно. На передние ряды благонравных жителей Мунли, на меня и на Феликса они посматривали с открытым нетерпением и пренебрежением. Лица их мрачнели, губы шевелились, но все же и здесь не было признака явного протеста. Как и первые две прослойки, третья тоже выжидала с настойчивостью отчаяния.
Мистер Боуэн взобрался на эстраду. Он сообщил умеренно строгим голосом, что очень рад возможности повидать столько народу, собравшегося с невинной целью поразвлечься и послушать музыку. Кое — кто из молодых людей и девиц хихикнул; мистер Боуэн и люди в черных парах, стоявшие в переднем ряду, стали метать суровые взгляды и укоризненно качать головой, пока не воцарилась торжественная тишина. Мистер Боуэн заявил, что он — де не может упустить случая сказать парочку — другую слов, — хотя, клянусь честью, если бы кто — нибудь вздумал действительно подсчитать количество сказанных им слов, то эта затея оказалась бы интересной, но слишком утомительной. Прильнув головой к струнам арфы, я подмигнул Феликсу, ответившему мне взглядом, полным упрека. И еще мистер Боуэн сказал, что настало время жатвы. Произнес он это так, что многие из пожилых мужчин и женщин, стоявших поближе к эстраде, закивали и заулыбались, будто хотели сказать: такой человек, ках мистер Боуэн, толкуя о жатве, возвращается, точно голубь, в родные места.
— Жатва, — сказал мистер Боуэн, — это олицетворение веры, знаний и силы, а каждый воз хлеба, громыхающий по дороге со своим драгоценным золотым грузом, — символ единства всех этих трех сил. Это триединство — воплощение человеческого гения, окропленное священным потом каждого пахаря.
Лица слушателей мистера Боуэна смягчились, потому что у них, как и у самого мистера Боуэна, еще живы были в сознании ароматы и ощущение земли.
— Вы, — сказал мистер Боуэн, — именно вы с вашими выносливыми, прилежными руками, и являетесь тем семенем, которое мистер Пенбори по велению господа закопал в борозду. И если злой вихрь не налетит на землю и не обнажит ее до непристойной наготы, то пора мира и изобилия вновь настанет для Пенбори и для вас. Но не забывайте, что Пенбори без вас не очень — то обеднеет, вам же без Пенбори грозит нищета и погибель.
Таков голый остов речи мистера Боуэна. Но по мере того, как слова слетали с его уст, появились и арфы, и клавикорды, и ангельские крылья — и какими только красотами не расцветил он свою проповедь для вящей убедительности. Большая часть людей, стоявших в передних рядах, встречала его слова с бурной радостью. Средняя прослойка тревожно шевелилась, пристально поглядывая вверх, как бы в поисках такой планеты, где нет необходимости отваживаться на какие — нибудь решения. В крайних, бунтарских рядах созревал протест, ропот отчетливо нарастал.
— Значит, денежные тузы могут просуществовать и без нас? — выкрикнул чей — то гневный звонкий голос.
— Пусть попробуют. Дайте — ка Пенбори и Радклиффу самим подержать разок лопаты!
— Закопать — то нас Пенбори не прочь, Боуэн, — прорычал кто — то еще. — Но не в борозду, не в борозду.
Ошеломленный, мистер Боуэн стал взглядом искать поддержки у своих сторонников. Я заметил, какое волнение поднялось среди людей старшего поколения и как они еще плотнее сгрудились вокруг эстрады.
Мистер Боуэн дал нам знак начинать. Как и в господском особняке, я играл не первую партию, а только аккомпанировал Феликсу, сгущая мелодию. Кое — кто из публики, стоявшей поближе к проезжей части улицы, стал жаловаться, что нас плохо слышно. Тогда человек десять вышли вперед и перенесли маленькую эстраду вместе с Феликсом, со мной и с нашими инструментами ярдов на десять подальше от дороги.
Наши первые номера состояли из псалмов. Сначала нам подпевали только откровенные святоши, и любопытно было видеть, как волна благоговейной печали постепенно стирала с их лиц все следы грубых земных вожделений. Но по мере того, как самые излюбленные псалмы повторялись, привычное действие простых утверждений, содержавшихся в них, нарастало и большая часть толпы, вырвавшись из плена вражды и раздоров, вечно разъедающих людскую плоть, плавно перенеслась в пещеру мрачного и смутного томления, которое открылось ей сквозь оболочку мягких гармонических звуков. Псалмы и восторженное возбуждение певцов так взвинтили нервы Феликса, что он точно разрывался на части и клочья его будто разносились по всем уголкам площади. Он даже чуть не свалился с эстрады от истощения, как вдруг кто — то из стоявших ближе к дороге потребовал покончить с этой чисто религиозной частью празднества.
Мистер Боуэн с некоторой неохотой поднял руку, приглашая нас взять несколько более живой темп. Я хлопнул Феликса по плечу и предложил ему передохнуть, так как нам пришлось бы по его вине повторять последние псалмы крайне медленно и из последних сил. Раскрасневшийся и ошалевший, он вскинул голову, и мы с ним увидели, как толпа всколыхнулась: люди исподволь возвращались к трезвому пониманию того, какой дорогой ценой приходится расплачиваться за помрачение рассудка; возвращались к мысли о повседневной борьбе за насущный хлеб, за существование. Через дорогу Изабелла, жена булочника, в богато расшитом коричневом переднике, приковавшем к себе мое внимание, продавала жаждущим певцам крапивное пиво. Я оглянулся вокруг в поисках Лимюэла, занимавшего раньше место у самой эстрады, но его и след простыл.