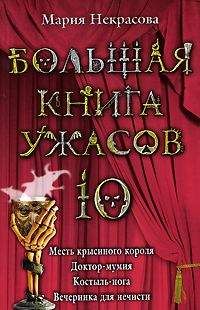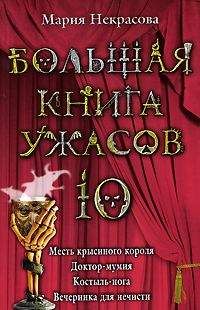Гвин Томас - Всё изменяет тебе
— Во всех поселках к югу от Мунли у меня есть друзья. Все они — люди, которых народ знает и которым он верит. Все они собственными глазами видели, как у наших людей пропадали вера и терпение: ведь жизнь из года в год ухудшалась, а зимы становились лютее. И я и мои друзья — мы упорно думали обо всем этом. Мы условились, что, когда настанет время, мы сольем слабые и разрозненные голоса недовольства в единый голос и скажем заводчикам, что правда не на их стороне. Мы поклялись, что если один из нас подаст сигнал, остальные поспешат ему на подмогу.
— Что ж, время для сигнала наступило?
— От меня зависит дать его.
— Когда же ты его дашь?
— В тот момент, когда буду уверен, что Пенбори собирается выполнить свою угрозу и загасить печи.
— Где же они встретятся, эти крестоносцы, эти предводители пустых желудков?
— На той самой вершине, на которой мы сейчас находимся.
— Значит, нечто вроде армии?
— Да, она будет набрана во многих районах.
— А оружие? Откуда вы достанете винтовки или хотя бы кирки?
— Они нам не нужны. Я и мои друзья — мы немало и горячо спорили по этому поводу. Но большая часть из нас сознает, что применение силы было бы безумием. Наша численность и наше, железоделов, мастерство — вот единственное оружие.
На мгновенье я онемел. То, что Джон Саймон рассказал, прямо ошеломило меня. При моем робком отношении к человеческой жизни я уже давно привык думать о людях, как об отдельных личностях или маленьких группах, — вот почему мысль об огромном скопище людей, вышедшем из пещер безнадежности и марширующем вперед под водительством Джона Саймона, окончательно вывела меня из душевного равновесия. Но туман легковерия быстро рассеялся, и сознание снова заработало с полной непредубежденностью.
— Допустим, тебе удастся заполучить огромные массы и они выстроятся на этом Синае, как сыны моисеевы, — что же дальше? Что они сделают? Ты обязан подумать о том, чем все это кончится, Джон Саймон. Ведь даже если ты войдешь в историю как величайший собиратель нищенской братии в эпоху голодных бунтов, то и тогда это тебе не принесет ровно ничего: не окупится даже трава на этом холме, вытоптанная во время сбора. А ведь господа, с которыми тебе придется иметь дело, ужасны не только своей ненавистью и жаждой власти, но и тем, что у них все точно рассчитано.
— Как ты думаешь, Алан: если бы ты был на моем месте, ты действовал бы иначе?
— Весь ритм твоего существа изменился. Новые ветры играют по горам и долам в твоей душе, Джон Саймон, и я сомневаюсь, смогу ли я, как прежде, найти к ней доступ. Продолжай выполнять свой план. Я могу догадываться о твоих чувствах. Ты всегда был пытливее меня. Повернуться бы тебе спиной ко всем этим грубым людям, бессильным и насильникам, — вот это была бы полная победа над ними! Но по многим причинам, выросшим на непонятной для меня почве, этого — то ты как раз и не сделаешь. Что ж, я готов остаться здесь и посмотреть, что из всего этого выйдет. В книге судеб написано, что ты с Кэтрин устремляетесь в печь замедленного действия, чтоб покрыться там хрустящей коркой сокрушенных надежд, которая так мила зубам судьбы и ее привратнику Пенбори. Я предпочел бы, чтобы этого не случилось. В тебе есть искра большого очарования, еще не разгоревшаяся, Джон Саймон, оттого — то мне так тошно, когда я вижу, как ты без толку болтаешься среди этих людей. Я с интересом буду следить за походом твоих лилипутов на гору, хотя ей бы лучше не нести на себе такой груз гнева и возмущения. Нам следует поосторожнее обращаться с горами. Горы — самое лучшее из того, что нам осталось. Ну, да все равно. Я рад буду встретиться здесь с твоими парнями. Их появление будет означать, что они хоть на несколько часов выползли из своих тараканьих щелей и прокопченных ям. Здесь, на чистом горном воздухе, они, может быть, поймут свое собственное убожество и содрогнутся при мысли, что сами — то они не больше как трусливые отщепенцы полей. А лучше бы им никогда не расставаться с этими полями, с их великим покоем и добротой.
— Придется тебе еще поучиться, Алан. Все, что ты говоришь, я уже слышал от Кэтрин, и не раз. Но та часть моей личности — самая мягкая, душевная, отзывчивая часть, — которой полагалось бы, как воску, принять в себя твои слова, — она стала тверда, словно кремень. За последние два года мы усвоили предназначенную нам форму глухоты и немоты. А может быть, мы глухи и немы от рожденья? Если мы, люди с почерневшими и заскорузлыми от железа руками, когда — нибудь сойдемся на этом плато, мы не принесем с собой сюда ни гнева, ни злобы. И духом и телом своим мы напомним мистеру Пенбори, что мы существуем, что мы созрели, достигли большего мастерства и удивляемся незаслуженной доле. Он потерял нас из виду, а мы хотим вернуть его взгляд на правильный уро вень. Вот, собственно, и все… Но ветер крепчает, становится темно. Так пойдем же.
Мы стали осторожнб спускаться по тропинке, ведущей на дно котловины. В тусклом сиянии слабо освещенных окон из мрака выступили рваные очертания Мунли. Мы двигались совершенно беззвучно, если не считать шарканья ног по сыреющей траве. Каждый был погружен в свои мысли.
9
При свете ранних вечерних сумерек я вместе с Лимюэ- лом Стивенсом шел к той площадке, на которой мне с моей арфой предстояло пропускать прохладную, освежающую струю сквозь застойную атмосферу Мунли. Место для этой площадки, расположенной прямо против лимюэловской лавки, оказалось выбрано очень удачно. Как раз здесь главная улица поселка рассекалась на две почти совершенно равные части, освобождая место для новой великолепной часовни, вокруг которой мистеру Боуэну удалось сплотить одну из самых крупных в этой местности религиозных общин. Около двадцати ярдов незастроенной и покрытой зеленью территории оставалось между часовней и небольшим домом, первым из шеренги одинаковых домов, тянувшихся до самого подножья холма, на котором стояло жилище Брайеров.
— Где же я буду выступать? — спросил я Лимюэла.
— Видишь вон те деревья? — Лимюэл указал на группу дубов, расположенных полукругом на стыке ровной площадки с откосом, который вел к пенборовскому дому. — Там небольшая деревянная эстрада. На ней — то вы и будете играть. Ты и Феликс.
— И он тоже?
— Конечно. Мистер Боуэн рассказывал мне, как мило Феликс играл у Пенбори. Мистер Боуэн считает, что парень он способный. Достаточно взглянуть, говорит он, как горят глаза Феликса, когда он ударяет смычком по струнам. По мнению мистера Боуэна, вполне вероятно, что это и есть талант.
— Вполне верятно, что Феликс болен. Мне представляется, что он носит пропотевшие лохмотья, подбитые страхом. Какой — то он сплошной кровоподтек.
— Ты что там плетешь, арфист? — удивленно спросил Лимюэл, подойдя ко мне чуть не вплотную.
— Можете не слушать, Лимюэл. Это не ваш язык.
— Мистеру Боуэну очень хотелось бы, чтобы Феликс как — нибудь украсил своей игрой его проповедь. — Вот тогда, по словам мистера Боуэна — ей — же — ей, он так и сказал, — на него по — настоящему снизошло бы господне вдохновение.
— Вместе они — сила. Если рыдающая музыка Феликса разожжет страсти этого пророка Боуэна, дьявол будет посрамлен, он почувствует себя мальчишкой и щенком.
— По словам Боуэна, Феликсу не хватает одного, чтобы стать великим артистом: уменья заглядывать в души людей, которые падают перед ним ниц и жаждут, чтобы их утешили, зачаровали.
, — Как старый чародей, скажу, Лимюэл, что у Феликса не будет недостатка в такой практике. Публика несет свои души всякому, кто хоть малость похож на владельца балагана, если то, что он дает им, не сплошная скука и грязь.
— От музыки жизнь в Мунли станет куда слаще. Может быть, эта музыка и тебе принесет кое — какую пользу, арфист, и ты начнешь попроще разговаривать с людьми и поменьше загадывать им загадок, за которыми и гончей не угнаться.
— Надеюсь. И проклятая же это дыра — Мунли!
— Ас Джоном Саймоном ты разговаривал?
— И немало. Мои челюсти до сих пор сводит при одном упоминании его имени.
— И что он сказал?
— Не много такого, что ты мог бы понять так сразу, без тренировки.
— Что, он взялся за ум?
— За ум? Да он владеет своим умом, как ручным медведем, и целый день водит его на веревочке. Ты, может, хотел спросить, не начинает ли он видеть жизнь в том свете, какой бывает от чадного фитилька, вроде тебя?
— Ты знаешь, арфист, что я хотел сказать. Так не раздражай понапрасну человека. Понимает ли наконец Джон Саймон, что, если он останется в Мунли, быть беде. Да и смерти ему, может, не миновать. (
— Вряд ли он так думает.
— Сказал ты ему, что оставаться здесь значит испытывать судьбу?
— Это не приходит ему в голову, Лимюэл.
— Во всем виновата Кэтрин. Околдовала его — вот он и стал беспомощным и бессловесным.