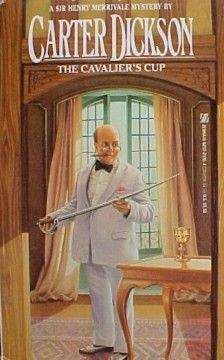Джон О'Хара - Время, чтобы вспомнить все
Боб Хукер, будучи литератором, позволял себе некоторую эксцентричность. Во-первых, он коллекционировал курительные трубки. Во-вторых, он брился опасной бритвой. И еще он ходил в высоких ботинках со шнурками, носил на запястье обычные часы, а помимо них еще и карманные часы, которые для форса заводились ключом. В странностях Хукера не было ничего опасного, к тому же он знал, что от него, литератора, никто не ожидает сходства с остальными смертными. Еще одной незначительной экстравагантностью Хукера было его настоятельное требование, чтобы у него на столе стоял старомодный телефонный аппарат. Аппарат привлекал к себе внимание, а Бобу он не стоил ни гроша. Телефон зазвонил, и Боб поднял трубку (в это время суток к нему пропускали звонки только важных персон).
— Это звонит мэр, — сказала телефонистка.
— Соединяйте, — сказал Боб Хукер. — Здравствуйте, мэр.
— Здравствуйте, Боб, — сказал Конрад Йейтс. — Я тут сижу у себя в кабинете и думаю о Джо Чапине.
— Да-да, — сказал Хукер. — Память о нем останется с нами на долгие, долгие годы.
— Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Об этом самом и хотел.
— О чем же именно, мэр?
— О памяти. Памяти о Джо. Вы знаете, что Джо Чапин удержал меня в Гиббсвилле?
— Ну… думаю, что знаю. Вы мне, кажется, что-то такое рассказывали.
— Около тридцати пяти лет назад я надумал перебраться в большой город, а Джо меня отговорил.
— Да-да, отговорил вас. Что ж, мэр, для вас это обернулось удачей, и для Гиббсвилля тоже.
— Спасибо, Боб. Приятно это слышать.
— И это правда. Вы многое сделали для города, да и город, похоже, сделал немало для вас.
— Я тогда был еще мальчишкой, и если бы Джо Чапин не отговорил меня уезжать, я бы сейчас жил в Филадельфии и был жалким деревенским дурачком.
— Понимаю. И что же у вас на уме? Я догадываюсь, что вы к чему-то клоните.
— Точно, Боб. Я хочу собрать несколько человек и предложить им сделать что-то в память о Джо. Вас, Генри Лобэка и Майка Слэттери. Артура Мак-Генри. Я не хочу приглашать Дженкинса и этого нового школьного начальника, который был там сегодня. Только нас, старичков, которым Джо был приятелем.
— Хм. Только наших городских. Не иногородних?
— Лучше только городских.
— А Пола Дональдсона из Скрантона и ребят вроде него не хотите?
— Ну, мы можем попозже попросить их внести пожертвования, но комитет должен быть из нас — городских.
— А что именно вы имеете в виду?
— Ну, я еще не решил.
— Вы уже с кем-то поговорили?
— Нет, пока только с вами, — сказал Конрад Йейтс.
— Ну, это стоящая идея, я за нее. Я поговорю об этом с Эдит, когда с ней увижусь. Дайте мне подумать, и через день-другой я вам позвоню. Я буду разговаривать с Эдит и могу прозондировать почву, хотя, возможно, это немного рановато. А может, я все-таки ее сначала немножко подготовлю? А потом я смогу назначить неофициальное собрание здесь, в моем офисе, с вами и остальными ребятами, и мы сможем обсудить все в общих чертах. Как вы на это смотрите?
— Ну… вы хотите собрать всех у себя в офисе?
— Или в вашем офисе. Но в вашем офисе это уже приобретет некую политическую окраску.
— Если вы хотите держаться в стороне от политики, тогда о Майке Слэттери не может быть и речи.
— Он наш штатский сенатор, не забывайте этого.
Конрад рассмеялся.
— Я не забываю об этом. Почти никогда. Я настолько привык к тому, что он политик, что забываю о том, что он еще и сенатор.
Боб Хукер не засмеялся.
— И весьма влиятельное лицо, Конрад. Мне не нужно напоминать вам об этом. Насколько я понимаю, вы не собираетесь снова баллотироваться в мэры, поэтому мы должны учесть то, что, когда кампания развернется — мемориальная кампания для Джо, — вы уже, вероятно, не будете мэром, а новый мэр может не захотеть участвовать в чем-то, что затеяли при прежнем мэре. Это все, что я имел в виду. А такие вещи быстро не делаются. И мы не хотим браться за это второпях.
— Нет, но мы и не хотим взяться за это слишком поздно.
— Я это, Конрад, понимаю.
— Я готов прямо сейчас дать на это дело тысячу долларов.
— Хм. Я, естественно, поддержу это, как только мы проведем несколько собраний и придем к какому-то решению.
Мэр хмыкнул.
— И я по-прежнему считаю, что мы должны собраться здесь или где-то еще, но не в муниципалитете. Вы меня понимаете, Конрад?
— Думаю, что да.
— У меня отличный офис, и нам никто не будет мешать.
— Хорошо, — сказал Конрад Йейтс.
— Я вам позвоню, — сказал Боб Хукер.
— Или я вам позвоню. Так или иначе, — сказал Конрад Йейтс, вешая трубку.
Еще не повесив трубку, он начал обдумывать следующий шаг. И через минуту Конрад включил селектор.
— Джо Раскин где-то поблизости?
— Не знаю, но я его поищу, — сказала секретарша.
— Мне он срочно нужен.
Не прошло и минуты, как заморгала лампочка селектора.
— Я нашла Джо Раскина. Он уже к вам поднимается.
Раскин вошел в офис мэра.
— Мэру привет, — сказал он. — Какие-то новости?
— У меня для тебя есть небольшая история, — сказал Конрад Йейтс.
— История мне не помешает, — сказал Джо Раскин, сотрудник газеты «Утреннее солнце», писавший репортажи о делах, связанных с полицией и муниципалитетом.
— Мне надо, чтобы это было в завтрашней утренней газете.
— Проще простого, — сказал Раскин. — Хотите снова баллотироваться?
— Ничего подобного, Джо. Но если мне понравится, как ты справишься с этим заданием, тогда, возможно, решив сделать другое важное объявление, я скажу тебе о нем самому первому.
— Мэр, все знают, что вы не собираетесь снова баллотироваться, но в чем все-таки дело?
— Это для завтрашней газеты, — сказал Конрад Йейтс.
— Вы так говорите, как будто не собирались отдавать ее «Стандард».
— Я и не собираюсь отдавать ее «Стандард». Они могут ее у вас скопировать, если захотят.
— Хорошо. Так в чем дело?
— Так: «Конрад Л. Йейтс, мэр города Гиббсвилля, объявляет, что собирается пожертвовать тысячу долларов — одну тысячу долларов — на мемориал в честь покойного Джо Б. Чапина, выдающегося адвоката и гражданина города Гиббсвилля, так как я всегда восхищался Джо Чапином, потому что он прекрасный гражданин и настоящий друг».
— Тысячу зеленых? — переспросил Раскин, записывая в блокнот. — А что за мемориал? Памятник, что ли?
— Еще не решил. Через несколько дней мэр соберет группу видных граждан, и они создадут комитет, чтобы решить, какой мемориал. Может, мемориальную доску. В любом случае что-нибудь стоящее, и я первый вношу тысячу долларов.
Раскин улыбнулся.
— За что вы сердитесь на Боба Хукера?
— Сержусь на Боба Хукера?
— Если это напечатают в «Солнце» прежде, чем он сам это опубликует, уж он на вас наверняка рассердится.
— Да нет, я просто хочу объявить об этом как можно скорее.
— Я не против, — сказал Раскин. — Что-нибудь еще?
— Это все, Джо. Спасибо.
— Спасибо вам, мэр, — сказал Раскин.
Джо Чапин умер. И за него началось сражение.
В 1909 году на улице Лэнтененго было достаточно весьма старых домов, так же как и на Северной Фредерик и Южной Мейн-стрит. Но старые дома на Северной Фредерик и Южной Мейн в действительности не были существенно старше видных зданий на Лэнтененго. К тому же пять или шесть домов на Лэнтененго были построены даже раньше некоторых домов на Северной Фредерик и Южной Мейн. Но даже в 1909 году между людьми, которые оставались жить на Фредерик и Южной Мейн, и теми, кто жил на Лэнтененго, уже было одно заметное различие: никто из процветавших в бизнесе и поднимавшихся по социальной лестнице не селился на Северной Фредерик и Южной Мейн, в то время как хозяева старых домов на этих улицах (даже в 1909 году) постепенно от своих домов избавлялись. Если житель Кристиана-стрит добивался в Гиббсвилле приличного успеха, он переезжал на Лэнтененго, чтобы жить рядом с теми, кто тоже добился успеха. Переезд на Северную Фредерик или Южную Мейн означал, что дела в этом семействе не так уж хороши. В 1909 году дом, построенный за 19-й улицей, хотя и на Лэнтененго, уже не считался престижным. «Им только бы жить на Лэнтененго», — говорили люди о своих соседях с Кристиана-стрит, строивших дома в квартале с номерами от 1900 и выше. Дома на Лэнтененго с номерами от 1900 до 2000 считались не более престижными, чем дом номер 1900 на Парк-авеню в Нью-Йорке. И все же это была улица Лэнтененго, и на ней происходило то, что называют прогрессом. В 1890 году границей престижной жизни была 16-я улица, теперь это была 19-я. В двадцатом веке никто не хотел переезжать на Северную Фредерик или на Южную Мейн, а любимой присказкой тех, кто жил на этих улицах, было: «Я здесь родился, я здесь и умру» или «Когда мне дадут стоящую цену, тогда я и продам».