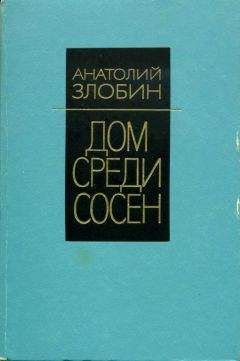Анатолий Злобин - Самый далекий берег
— Холодно, — сказал Войновский. — Говорят, замерзнуть очень легко. Самая хорошая смерть.
— Всякая смерть нехороша. Потому сказано в писании: «Не убий!»
— Обидно было бы погибнуть от своей пули. — Войновский до сих пор не мог прийти в себя и забыть то страшное чувство, когда он лежал под холодным камнем и ждал конца.
— Всякая смерть человеческая несправедлива. Замерз, сгорел, утонул, взорвался, от пули помер — все одно несправедливо.
— Хорошо бы умереть сразу, неожиданно для самого себя. А потом уже ничего не будет, ни боли, ни страха.
— Вот оно и есть самое страшное, — сказал Шестаков. — Горе лютое.
— Знаешь что, Шестаков. Давай подороже продадим свои жизни. Если что, вылезем наверх и прямо к этому блиндажу, закидаем его гранатами — и погибнем. Ладно?
— Все одно уж, — равнодушно сказал Шестаков. Он сложил руки крестом на груди, откинул назад голову, закрыл глаза.
— Хочешь, я первый наверх полезу? А ты за мной, ладно? — Войновский дрожал от холода и возбуждения. — Об одном прошу тебя, Шестаков. Если ты останешься после меня, забери мой медальон, он на груди висит. А потом, после всего, напиши письмо. В кармане лежит конверт с обратным адресом. Напиши, пожалуйста, по этому адресу в Горький, как ты видел мою смерть. Это невеста моя, пусть она тоже узнает.
— Тебя как звать-то? — спросил Шестаков, не открывая глаз.
— Юрий.
— А по батюшке?
— Сергеевич.
— Юрий Сергеевич, значит. А я Федор Иванович. Вот и обратались, значит, на краю...
— Ой, что это? — невольно вскрикнул Войновский.
Пулемет под обрывом давно не стрелял, в тишине стало вдруг слышно, как немец в блиндаже заиграл на губной гармошке. Немец играл «Es geht alles vorbei»[6]. Они не знали этой песни, ее протяжная горестная мелодия показалась им чужой и враждебной. Но и эта чужая песня говорила о человеческом страдании и надежде, и ее печальная мелодия зачаровала их. Они подвинулись теснее друг к другу, зачарованные чужой песней и страшась ее, потому что она снова напоминала им о том, как близко они от врага.
— Они убьют нас, — прошептал Войновский.
— А ты надейся, Юрий Сергеевич. Прижмись ко мне крепче, теплее будет. Ты не думай, вспоминай что-нибудь хорошее.
— Как только рассветет, они тотчас увидят наши следы.
— До утра дожить — и то спасибо.
— Холодно. Ой, как холодно, — сказал Войновский и закрыл лицо руками.
глава XIV
Старшина Кашаров полз вдоль цепи. Кашаров вовсе не хотел идти под огонь пулеметов и мог бы не делать этого, послав другого, но дело касалось водки, а водку старшина боялся доверить даже себе. Старшина Кашаров исполнял свой долг: полз вдоль цепи, раздавая водку солдатам.
— Старшина?
— Он самый. — В свете ракеты Кашаров увидел худое синее лицо, заросшее щетиной. Солдат смотрел на старшину, глаза горели лихорадочным блеском. Ракета упала, глава солдата потухли.
— В атаку скоро подымать будут? — спросил Проскуров. — Не слышал у начальства?
— Озяб? Грейся. — Кашаров откинул крышку термоса, зачерпнул водку алюминиевой кружкой.
— Поднеси сам, старшина. А то руки совсем закоченели, боюсь, расплескаю.
Старшина поднял чарку. Зубы Проскурова стучали по кружке. Он кончил пить, крякнул.
Они подползли к солдату, лежавшему ногами к берегу. Проскуров дернул солдата за ногу. Тот лежал ничком и не шевелился.
— Эй, проснись, — сказал старшина.
— Не буди, старшина, не добудишься. — Проскуров поднял голову солдата, заглянул в лицо. — Он самый. — Проскуров отнял руку, голова глухо стукнулась о лед. — Из студентов.
— Переверни его. Медальон надо забрать.
Проскуров вытащил медальон. Кашаров спрятал медальон в сумку, открыл термос.
— Хорош напиток, — сказал Проскуров, опорожнив кружку. — недаром им покойников поминают. Еще полчаса назад живой был, мы с ним разговор вели. Образованный. Много фактов знал. Всю жизнь по книгам учился. А вот все равно замерз. Застыло сердце. За что только? Мне-то не жалко. Я пожил. И водки попил и с бабами поспал. Все было. Не учился, правда. Но вот, видишь, живу пока. — Проскуров отдал пустую кружку старшине, быстро задвигал ногами, уползая в темноту.
Через два человека старшина снова наткнулся на мертвого. Рядом валялось вогнутое противотанковое ружье. Белые бинты, обматывавшие ствол, распустились, покрылись гарью, свисали лохмотьями. Убитый лежал на спине. Он был толстый и короткий. Старшина полез за медальоном, и ему показалось, что он никогда не доберется. Под полушубком были две телогрейки, потом две гимнастерки. Старшина расстегивал и расстегивал одежды, а пальцы опять натыкались на пуговицы.
— Мародер несчастный. — Кашаров выругался.
— Зачем бога крестишь? — Голос над ухом прозвучал так близко, что старшина вздрогнул, испуганно выдернул руку. Перед ним стоял на коленях Стайкин.
— Разрешите представиться, товарищ старшина. Командир второго взвода старший сержант Стайкин. Жду повышения по службе.
— Где же лейтенант? — испуганно спросил старшина.
— Тю-тю. — Стайкин присвистнул и показал рукой на небо.
Старшина со вздохом подтащил к себе убитого. Стайкин схватил автомат.
— Не тронь, — быстро сказал он. — Зачем трогаешь моего друга детства? Он мой.
— Интересно, — сказал старшина.
Та-та-та... — застучало над ухом Кашарова. Автомат, лежавший на животе убитого, трясся в руках Стайкина. Почти сразу же на берегу заработал пулемет. Старшина вжался в лед за телом убитого и услышал, как пули ударяются во что-то мягкое. Стайкин выпустил весь магазин, с усмешкой посмотрел на Кашарова.
— Вот так и воюем, товарищ старшина. Это вам не водку раздавать.
— Кто это? — спросил старшина, зачерпывая водку и кивая на мертвого.
— Ох, старшина, не задавай острых вопросов. До скорого. Родина зовет меня. — Стайкин вскочил и, пригнувшись, вихляя задом, побежал вдоль цепи.
Старшина Кашаров полез за медальоном. Ему пришлось расстегнуть еще гимнастерку и рубаху. Наконец пальцы нащупали медальон на холодном теле. Старшина потащил медальон и вдруг почувствовал под рукой еще один такой же футлярчик. Не веря себе, он выхватил оба медальона, обрезал шнурки ножом, чувствуя, как руки коченеют от холода. Два продолговатых черных футляра лежали на ладони Кашарова, и он не знал, какой открывать первым. Потом отвинтил крышки. Две свернутые в трубку бумаги вывалились из медальонов. Кашаров накрылся плащ-палаткой, трясущимися руками развернул бумажки, чиркнул зажигалкой. «Григорий Степанович Молочков» — было написано на первом листе, далее следовал адрес. Почерк на втором листке был другой: «Михаил Васильевич Беспалов». Старшина прочитал оба листка до конца, чувствуя на руках свое жаркое дыхание, потом резко откинул плащ-палатку.
«Молочков и Беспалов, — твердил он про себя. — Кто же лежит здесь? Беспалов и Молочков — который из них? Кто? Молочков? Или Беспалов?» Ракета поднялась над берегом. Старшина быстро приподнялся на локтях. Лицо убитого было сметено взрывом, ничего, кроме смерти, не осталось на этом лице. Старшина схватил термос, пополз прочь от этого места.
Стайкин лежал на льду, спрятавшись за телами убитых, и ему было скучно.
— Передать по цепи! — крикнул Стайкин. — Рядовой Грязнов! Ко мне!
Грязнов подполз, с опаской глядя на сооружение, которое сотворил Стайкин.
— Неплохо устроился, — сказал Грязнов.
— Как в Азове на пляже, — охотно согласился Стайкин. — Нечто среднее между окопом полного профиля и неполной братской могилой. Приобщайся. Принимается предварительная запись...
Двух убитых Стайкин положил перед собой друг на друга, спинами вверх, головами в разные стороны. Тела убитых закрывали берег, защищали Стайкина от пуль и осколков. На спине у верхнего лежала снайперская винтовка, из которой Стайкин вел огонь по берегу.
Стайкин отцепил флягу, протянул Грязнову.
— Быпей, Грязнов, за моих верных боевых друзей, которые не оставили меня даже после смерти.
Грязнов выпил, хотел было ползти обратно.
— Постой, куда же ты! — закричал Стайкин.
— Да мне по нужде, старший сержант. Мочи нет.
— Эх, Грязнов, я душу перед тобой излить хотел. Нет в тебе тонкости. Один я пропадаю здесь в расцвете сил и талантов. Я не могу воевать в такой обстановке.
— Мало? — спросил Грязнов. — Поди собери еще.
— Никто меня не понимает. Я человек, и я желаю воевать в человеческих условиях, как все люди, а не как людоед. Убивайте меня по-человечески. Уберите от меня мертвецов. Я не могу воевать вместе с мертвецами, они отрицательно действуют на мою психику. Я требую человеческого отношения. Иначе я отказываюсь воевать.
— Старший сержант, отпусти меня. По нужде надо сходить.
— Веселый ты паренек, с тобой не соскучишься. Спасибо, тебе, Грязнов, утешил ты меня. — Стайкин повернулся к Грязнову спиной и стал стрелять из винтовки в амбразуру дзота, где стоял немецкий крупнокалиберный пулемет. Он выпустил две обоймы, взялся за флягу.