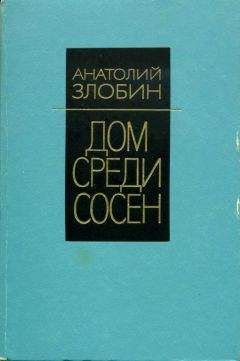Анатолий Злобин - Самый далекий берег
Севастьянов встрепенулся, быстро задвигал рукой, будто листая страницы книги.
— А вот еще. Только не помню откуда. Кажется, из другого тома... «Приду к одному месту, помолюсь; не успею привыкнуть, полюбить — пойду дальше. И буду идти до тех пор, пока ноги подкосятся, и лягу и умру где-нибудь, и приду, наконец, в ту вечную, тихую пристань, где нет ни печали, ни воздыхания...»
В воздухе засвистело, запахло жженым. Снаряд шлепнулся вблизи. Испуганно пригибаясь, солдаты побежали в темноту.
Севастьянов и Стайкин остались одни.
— Все? — спросил Стайкин.
— Еще что-то было. Не помню. — Севастьянов закрыл глаза.
— Вечер воспоминаний окончен. Бегом, вперед! — скомандовал Стайкин. — Бегом, тебе говорят!
Они добежали до того места, где был «окоп» Стайкина.
— Бери, — сказал Стайкин, указывая на мертвого. — С кровью отрываю от своего тела.
— Он же мертвый? — удивился Севастьянов. — Зачем он?
— Взять! Приказ капитана. Быстро!
Севастьянов неловко обхватил убитого одной рукой, пополз по льду. По лицу его катился пот.
— Ну как? — спросил Стайкин. — Понял теперь?
— Тяжелый, — сказал Севастьянов. — Что же все-таки делать с ним?
— Клади. Да не сюда. Перед собой. Закрывайся им.
— Зачем? — Севастьянов смотрел на Стайкина и все еще ничего не понимал.
— Чтобы жить, дурак! — крикнул Стайкин, едва не плача от отчаяния.
глава XV
Старшина Кашаров докладывал о потерях: убито и ранено, утонуло, замерзло, пропало без вести... Старший лейтенант Обушенко лежал рядом со Шмелевым и записывал цифры, которые называл старшина.
— Пятнадцать убитых остались в цепи. Не отдают.
— Как не отдают? Кто? — не понял Обушенко.
— А что я с ними сделаю, если они не дают. Вцепились в них и не дают. — Старшина Кашаров все еще никак не мог прийти в себя после того, что ему пришлось повидать на переднем крае.
— Где они?
— Во второй роте осталось больше всего, товарищ капитан. Не дают — и все тут.
— Я спрашиваю: где ты сложил тела? — повторил Шмелев.
— За цепью. Как приказывали. Тут недалеко.
— Пойдем, — коротко сказал Шмелев. — Пойдем к ним.
Они лежали в плотном ряду, все ногами к берегу, все на спинах, лицами к небу. Яркая белая ракета висела над озером на парашюте. Пустой призрачный свет освещал их лица. Все они были мертвы.
Правофланговым в их строю был старший лейтенант Плотников. Лицо его спокойно, в глазницах белел снег. Руки Плотникова лежали как попало, и Шмелев осторожно поправил их на груди.
Рядом с Плотниковым лежал капитан Рязанцев. Прядь волос выбилась из-под подшлемника, упала на лоб. На лице застыла загадочная улыбка, открывшая ровные белые зубы; в этой улыбке было все, что может быть в улыбке человека: страх и надежда, радость и сострадание, отчаянье и любовь, и еще что-то такое, что неведомо живым.
— Где фляга? — спросил Шмелев.
Джабаров подал флягу. Обушенко повернулся спиной к мертвым и погрозил кулаком в сторону берега. Он припустил длинное ругательство и никак не мог кончить его. Сначала он пустил двухэтажное, потом трехэтажное, пятиэтажное, стоэтажное, только одни этажи, сплошные этажи. Он вспоминал Гитлера и всех его родичей и всю его собачью свору — на кол посадим, отрежем, шакалам бросим, раскаленный прут воткнем — ох, чего только не выделывал с ними Обушенко, исходя ненавистью и страхом. Шмелев кончил пить, с восхищением слушал Обушенко.
— У тебя же талант, — сказал он и зашагал дальше вдоль строя.
— Смотрите! — в испуге крикнул старшина, шедший впереди, и живые остановились.
Перед ними лежал пожилой солдат со смуглым перекошенным лицом. А тело у него было такое, что на него не могли смотреть даже солдаты.
— Это он, — быстро говорил Джабаров. — Я в первую роту бегал, видел. Часа три назад. Он у пулемета лежал, а потом гранату под живот подложил и дернул. Я сразу лег, а его подбросило. Он животом в прорубь сполз, а ноги застряли. Я вытащил его на сухое, уже не дышит.
— Да, — сказал старшина Кашаров. — Которые от пули погибли, которые от холода, которые от ужаса.
— Товарищи, — сказал Шмелев, — если мы когда-нибудь забудем это, пусть нам выколют глаза и отрежут язык. Пусть нас разорвут на куски и бросят бездомным голодным собакам.
Лица мертвых были смыты и размазаны смертью, снег лежал в глазницах, на губах, под касками. Их собрали вместе и положили за цепью, позади живых. Оки лежали безмолвно, и плотный длинный ряд их казался бесконечным. Две серые тени двигались в конце этого длинного ряда: санитары принесли еще одно тело, положили его на лед и торопливо пошли обратно. Мертвых было много, слишком много для одного человека. Но как делать, чтобы все люди на земле увидели их, чтобы не стало больше заледенелых, обугленных, разорванных, оскаленных?
Обушенко перебил его мысли:
— Пойдем на командный пункт. Пора атаку назначать.
— Нет, — сказал Шмелев. — Атаки не будет. Война отменяется. До утра. Старшинам отвести людей в тыл. На один километр. Накормить горячей кашей, обсушить. Отводить поочередно по одному взводу от каждой роты. — Шмелев говорил отрывисто и резко, будто кто-то разгневал его и он кричал на этого человека. — Объявить личному составу — будет отдых. Ослабевших накормить в первую очередь. Замполиту провести разъяснительную работу. Чтобы ни один не замерз больше. За каждого замерзшего буду спрашивать лично. У меня все. Через полчаса я приду к командирам рот и отдам Боевой приказ.
Шмелев и Джабаров остались вдвоем, и Шмелев знал теперь, что он не уйдет отсюда до тех пор, пока не пройдет сквозь этот холодный строй мертвых до самого конца, чтобы заглянуть в лицо каждого и, унести его в себе.
«Ради чего, — думал Шмелев, — они лежат здесь, на холодном льду, вдали от своих жилищ, отторгнутые от своих жен, детей? Лежат такие одинокие, хотя их так много. Если бы мы выполнили боевой приказ, жертвы были бы оправданны. Приказ не выполнен, а они все равно лежат.
Но боевой приказ не может прекратить свое действие оттого, что кто-то стал мертвым. Пока ты жив, ты не можешь преступить за грань приказа. Только мертвые имеют право на это. А ты жив — значит, приказ действует. Даже если ты останешься один, он все равно будет действовать. Одному это было бы, наверное, легче, чем с батальоном.
Ты пошел бы, лег на мост, взорвался бы вместе с ним. Но ты должен прийти туда с батальоном, а это труднее, чем одному. Ты не знаешь всего того, ради чего был задуман и принят приказ. Много войска пошло туда, никогда на этом фронте не было так много войска. И может, твой генерал, командующий этими войсками, отдавал тебе приказ и знал, что ты не выполнишь его. Значит, мы лежим не напрасно, лежим потому, что так нужно, а генерал потом ударит в другом месте, ведь у него есть чем ударить. «Вы узнаете свою задачу после того, как выполните ее», — он прямо сказал об этом. Погибнуть ради общего дела — вот какая у нас задача. Мы, кажется, неплохо выполняем свою задачу, мы стараемся изо всех сил. Мы так здорово выполняем ее, что скоро будет уже некому выполнять. Однако брось свою иронию. Ведь всегда кто-то погибает ради других, ради победы. Умирают всегда другие — пока ты жив. Пока что не было таких войн, чтобы всем было поровну — чтобы все погибли или все остались в живых. А теперь подошел твой черед. Где-то далеко-далеко есть солнце, луга, пахучие травы, улицы городов, огни витрин, по бульвару бредут влюбленные, а на площади звенит трамвай — все это уже не для тебя. Но почему война должна взять именно меня? Это моя жизнь, и я не хочу отдавать ее. Что ж, ты можешь распорядиться своей жизнью. Ты можешь отдать приказ на отход, потому что дальнейшие жертвы бессмысленны и ты сможешь доказать это в самом высоком трибунале. А не докажешь — все равно. Решись — и ты уйдешь отсюда. Ценой своей жизни ты спасешь других. Постой, постой, ты сказал что-то очень важное. Твоя жизнь принадлежит тем, с кем ты пришел сюда. И надо прожить эту жизнь так, чтобы мертвые не могли бросить слова упрека, чтобы они знали: ты был с ними наравне, и тебе просто повезло, а им нет. И ты уже знаешь, что сделаешь, но все еще притворяешься и рассуждаешь, чтобы набраться духу и сделать то, что задумал. Ведь после этого нельзя будет жить так, как ты жил до сих пор. Но кто же виноват в этом? Ты не хотел драться, но теперь ты не выпустишь оружия до тех пор, пока хоть один враг будет на твоей земле. И он еще узнает, на что ты способен. Ты и сам не знал, что способен пережить и вынести. Зато теперь ты знаешь. Посмотри на них еще раз. Смотри и запоминай. Они стали мертвыми ради этого, чтобы ты победил, и то, что ты собираешься вделать с ними, ничто в сравнении с тем, что они уже отдали тебе. Возьми их, убей их снова, им все равно, они ничего не узнают и не почувствуют. Убей их еще, чтобы спасти живых. Хватит мертвых. Не об этом ли говорил Плотников, а ты все никак не мог сообразить, что он сказал. Он велел именно это. Вот он лежит. Возьми его с собой. Мертвые уже не победят, но живые должны победить, иначе мертвые не простят. И поэтому брось слюнтяйничать. Ничто уже не воскресит их».