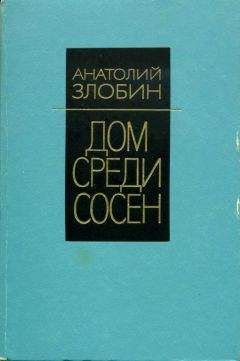Анатолий Злобин - Самый далекий берег
Пуля косо ударила в каску, в голове загудело звонко. И тогда он собрал все обиды, всю горечь и словно выплеснул все это из себя вместе с выстрелом. Что-то вспыхнуло внутри ослепительного острия иглы, разорвалось брызгами во все стороны. И сделалось темно, радужные круги поплыли в глазах. Он закрыл глаза, но круги не уходили. Каска продолжала звенеть, он почувствовал, что поднимается в воздух, а моторы гудят на высокой ноте. Он летел, стремительно набирая скорость, и тело наливалось тяжестью. Вокруг сделался туман — он понял: проходим сквозь облака; жаркий огонь вспыхнул в глазах — понял: солнце. Солнце стало быстро уменьшаться, потухло, и на месте его одна за другой начали загораться звезды. Стремительно и неслышно вращаясь, небесные тела проносились мимо, кололи острыми иглами, испуская зеленый холод. Тело все больше наливалось свинцовой тяжестью, и Шмелев понял: земля не отпускает его от себя, потому что люди на земле еще стреляют друг в друга, он должен быть среди них — еще не пришло время улетать к звездам.
Бой утихал. На ледяное поле спустилась темнота. Джабаров подбежал к Шмелеву и лег рядом.
Другая тень промелькнула в темноте, шлепнулась на лед.
— Сергей, Сергей! — в отчаянии кричал Обушенко.
— Не трогайте его, — сказал Джабаров. — отдыхает.
Шмелев лежал на спине, раскинув руки, с лицом, сведенным судорогой. Трясущимися руками Обушенко отстегнул флягу, начал лить водку в рот Шмелева. Жидкость тонкой струйкой пролилась по щеке. Шмелев сделал судорожное движение и проглотил водку. Лицо разгладилось, он задышал глубоко и ровно.
Обушенко стоял на коленях и тряс его за плечи.
Шмелев удивился, увидев Обушенко, и спросил:
— Ты живой? — и снова закрыл глаза.
— Очнись, очнись! — кричал Обушенко.
— Где Клюев? — спросил Шмелев. — Он пойдет с нами. Скажи ему.
— Клюев убит. Плотников убит. Вое убиты. Ты один остался. Очнись.
— Собери всех вместе. Скажи им — они пойдут с нами. Они должны пойти. Собери их.
— Сергей, Сергей! — кричал Обушенко, а зубы его сами собой стучали от страха.
— Он спит, — сказал Джабаров. — Не мешайте ему.
— Я сейчас, — внятно сказал Шмелев. — сейчас приду.
В зале погас свет, на экране зажглись слова: показывали специальный выпуск новостей. Оркестр играл марш, испанцы бежали в атаку на фалангистов. Они бежали по склону горы, сквозь редкий колючий вереск. Пули вспарывали скалу, белая пыль снежно поднималась вокруг бегущих, пот катился с них градом, музыка играла боевой марш — кинохроника была самая настоящая. Солдаты бежали, ложились за камнями, вскакивали, опять бежали через вереск. Одного, тонкого, чернявого, показали крупным планом, он бежал с оскаленным лицом и стрелял из винтовки, а потом лег на белые камни и больше не встал, потому что так могут лежать только мертвые. А я все ждал, когда же он поднимется: я тогда не знал еще, как должны лежать мертвые; он все еще лежал, и Наташа схватила в страхе мою руку, но его больше не показывали. Мы вышли из зала. На улице стоял дикий мороз, белые сугробы тянулись вдоль тротуара, и нам некуда было деться. Я купил билеты, и снова мы увидели, как он бежит, оскалив рот, падает и лежит. А нам было по восемнадцать, и некуда было деться — мы в третий раз пошли целоваться в темный зал. И опять увидел, как тот чернявый, который упал, снова бежит с оскаленным ртом, а потом падает мертвый. «Смотри, опять он бежит», — сказала она, прижимаясь ко мне и дрожа. А испанец опять бежал и падал мертвый, потом снова стрелял и снова мертвый, стреляет мертвый, бежит мертвый, опять встает и бежит — пока были деньги на билеты. Мы ушли из кино и больше не целовались, потому что стоял дикий мороз и сугробы лежали кругом. Мы не вспоминали о нем, но испанец шел с нами. Наташа вдруг прижалась ко мне и спросила: «Боже мой, что же будет? А вдруг это всерьез и надолго?» А я даже не поцеловал ее, чтобы успокоить, я не знал тогда, что можно любить в мороз, ненавидеть в мороз, убивать в мороз, целовать в мороз, — ведь замерзшая земля — все равно наша земля, и пока мы на ней, мы будем любить и ненавидеть.
Обушенко запрокинул голову и пил из фляги долгими глотками. Шмелев открыл глаза и снизу смотрел на Обушенко; ему казалось, будто у Обушенко нет головы, а руки сломаны.
— Оставь глоток, — сказал Шмелев.
У Обушенко тотчас появилась голова, руки встали на свое место. Шмелев сделал глоток и сел, поджав ноги. Ракеты поднимались, били пулеметы — на поле все было по-прежнему. Шмелев снял каску, шум в голове стал тише. Пуля ударила в каску сбоку, оставив глубокую вмятину как раз против виска. Обушенко подвинулся и тоже рассматривал каску. Шмелев насмотрелся вдоволь, надел каску, затянул ремешок на подбородке.
— Принимай команду, капитан, — сказал Обушенко.
— Кто из ротных у тебя остался?
— Ельников, третья рота. Давай объединяться в один батальон.
— Давай, — сказал Шмелев. — Все-таки я возьму этот распрекрасный берег. Назначаю тебя своим заместителем.
— Вместо кого?
— Вместо Плотникова, вместо Рязанцева, вместо Клюева — вместо всех. Будешь и по штабной, и по строевой, и по политической.
— Раздуваешь штаты? — Обушенко глухо засмеялся в темноте. — Здорово же тебя жахануло. Хана, думаю, полетел к звездам. Кто теперь надо мной командовать будет? — Он говорил и смеялся все громче неестественным срывающимся смехом.
— Ты, я вижу, теперь доволен?
— Ой, Сергей! Ой, как я теперь доволен...
— Получил такую войну, о которой мечтал?
— Теперь мне хорошо: живу...
— Но берегись. Теперь я покомандую. — Шмелев тоже засмеялся, сначала несмело, а потом громко и отрывисто. — Я теперь тебе спуска не дам. Ты у меня побегаешь.
— Один тут захотел командовать, да голос сорвал.
— Где же он? Куда запропастился?
— В руку стукнуло. Даже в атаку подняться не успел.
— Жаль. Неплохой парень. Хоть и красавчик. — Шмелев натянул рукавицу, нащупал внутри холодный плоский предмет. Вытащил секундомер. Маленькая стрелка на внутреннем циферблате показывала, что прошло девятнадцать минут с того момента, как был включен секундомер.
Вдалеке послышалось гуденье мотора.
— Слышишь? — спросил Обушенко. — Покатил. Секундомер на память оставил. Х-ха. — Обушенко снова засмеялся срывающимся смехом.
— Нам с тобой таким подарком не отделаться. Нас отсюда на санях не повезут. — Шмелев расхохотался.
— Персональный самолет за нами пришлют. Посадка прямо на льдину. Готовь посадочные знаки. Начинаем дрейфовать. — Обушенко схватился за живот и повалился на бок.
Они смеялись все громче. Они катались по льду и задыхались от смеха. Джабаров сначала с удивлением смотрел на них, затем нервно хихикнул и тоже захохотал.
— Вам, товарищ капитан, в снайперы надо записаться.
— Куда ему, — подхватил Обушенко. — С пяти выстрелов попасть не мог. Все патроны перевел. Мы теперь без патронов остались. Капут.
— Замполит раздобудет. Ха-ха...
— Опять станешь в белый свет палить?..
Тяжелая пуля противотанкового ружья разнесла на куски зеркальную часть прожектора, разорвала и замкнула электрическую проводку. Брошенный, осевший набок прожектор одиноко чернел у щита, сколоченного из досок, а за щитом, светя фонариками, суетились солдаты — комендант немецкого гарнизона майор Шнабель лежал там на снегу в луже крови. Первая пуля, пущенная Шмелевым, уложила наповал немца, когда тот стоял на берегу рядом с прожектором и смотрел, как ослепленные цепи русских мечутся по льду.
Сергей Шмелев не промахнулся, но не знал этого, иначе он сумел бы ответить Обушенко по-другому. Не знал Шмелев и того, что он еще встретится с мертвым Шнабелем, но тогда ему будет не до смеха.
глава XIII
— Бери левее, — сказал Шестаков. Он говорил одними губами, но Войновский услышал, понял его.
Шестаков вонзил лопату, железо звякнуло о камень; оба застыли, подняв головы, вглядываясь в черноту обрыва. Прямо над ними работал крупнокалиберный пулемет, тот самый, против которого они лежали на поле. Верхний накат нависал над обрывом, язычки огня остро выскакивали, бились под бревнами. Хлопнув, взлетела ракета.
Шестаков осторожно вытащил лопату и посмотрел в ту сторону, куда бил пулемет. Лед незаметно переходил в береговую отмель, лишь по пологому заснеженному подъему можно было догадаться — это уже не лед, а берег. Два больших валуна торчали из-под снега. Сразу после валунов отмель кончалась. Берег поднимался обрывистым уступом, заметенным до самого верха.
Войновский и Шестаков копали нору в снежном намете под обрывом, замирая каждый раз, когда ракета пролетала над ними и мертвый свет заливал обрыв, снег, лед у берега.
— Увидят, — быстро сказал Шестаков одними губами.
Войновский опять понял, но ничего не ответил. Шестаков передал лопату, отталкиваясь руками от Войновского. Снег был сухой, он скрипел, легко приминался под грузным телом Шестакова. Шестаков поерзал задом, усаживаясь поудобнее, потом двинул плечом, вдавливая снег в сторону. Войновский протиснулся спиной на выдавленное место. Оба часто дышали, вслушиваясь, как бьет пулемет над обрывом.