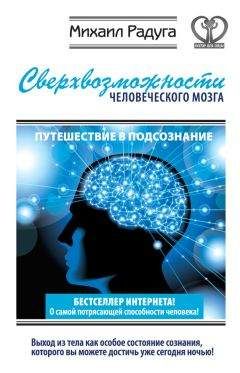Михаил Слонимский - Лавровы
— Сволочь! — закричал он. — Ты-то как смеешь? Сам ты что делал?
Он увидел на рукаве офицерской шинели, у обшлага три золотые полоски и сказал, обращаясь к солдатам:
— Трижды на фронте человек ранен.
У штабс-капитана прыгали губы, и он выговаривал невнятно:
— Я не з-знал… ч-что у вас… б-б-беспорядки… Я на сб-сборный п-пункт… б-б-братцы…
Он никогда в жизни не заикался. С этого момента он стал заикой.
Он пошел в ближайшие ворота, держась обеими руками за живот и сгибаясь так, словно в тело ему врезался уже холодный штык.
Солдаты беспорядочно стреляли в воздух. Но уже взад и вперед по Кирочной улице носился верхом на холеной офицерской лошади вывалянный в снегу высокий тощий подпрапорщик, напомнивший Борису белоруса, который рассказывал ему о гибели единственного сына. Он кричал:
— Направо! Все направо!
Гвардейцы строили солдат и хрипло командовали «смирно!», стараясь внести в движение хоть какой-нибудь порядок. И Борис видел, как его взводный покорно встал в отделение, составленное из волынцев, преображенцев, литовцев и саперов. Старый службист совсем обалдел. В этой новой армии он мог быть только молодым, неопытным новобранцем.
Солдаты шли к Литейному проспекту. Они остановились перед казармами жандармов. Дневальный собрался было стрелять, но его вмиг обезоружили, и жандармы сдались, не сопротивляясь. Юнкера школы саперных прапорщиков немедленно присоединились к восставшим.
Никто не мог свернуть с Кирочной улицы в сторону, в переулки: патрули не пускали.
У здания армии и флота остановились надолго.
Молодой волынец предложил:
— Тут живут офицеры. Может, они согласятся с нами?
Солдаты угрюмо молчали.
Борис выбрался из толпы. Выбравшись, обернулся и увидел Козловского, который сказал ему:
— Погоди. Намучаешься у меня еще.
Унтер щурил левый глаз, и тощее лицо его дергалось. А Борис думал о полковнике Херинге. И еще о том, что он только на миг повернул события в ту сторону, в которую хотел, а дальше события потащили его за шиворот и он никак не мог бы уже управлять ими.
Он взглянул на унтера и сказал, твердо выговаривая каждое слово:
— Веди себя тихо. Иначе ты от меня не уйдешь — везде найду.
Он с удовольствием отметил, что Козловский посмотрел на него с испугом. Этот человек привык к тому, что все боялись и слушались его, а теперь ему самому приходилось бояться и поневоле слушаться.
С ненавистью глянув на Бориса, унтер смолчал и пошел прочь. И то, что он не решился по обыкновению прикрикнуть или пригрозить, показалось Борису еще одним знамением радостных перемен.
Солдаты пошли к Литейному мосту, на Выборгскую сторону, а оттуда повернули обратно — к Таврическому дворцу, где заседала Государственная дума. Из белоколонного здания вышел массивный человек. Лицо у него было полное, с мясистым носом. И хотя щетина торчала сегодня на этих всегда чисто выбритых щеках, Борис узнал в этом человеке члена Государственной думы Михаила Борисовича Орлова. Он орал:
— Освобожденная революционная армия должна теперь с еще большей силой пойти на защиту родины, довести войну до победного конца!..
Борис пробрался в первые ряды. Когда член Государственной думы, кончив речь, оглядел солдат, то увидел и узнал Бориса. Он нахмурился, поглядев на солдата строго и угрюмо.
Борис вышел из толпы и повернул к казармам. Навстречу двигались команды солдат — к Таврическому дворцу. Во главе некоторых команд шли офицеры с красными бантиками на груди. Две роты литовцев шагали под музыку: духовой оркестр играл «Марсельезу».
На Кирочной улице было уже совсем тихо. Борис шел, не глядя по сторонам, и вдруг услышал окрик:
— Сюда!
Он оглянулся.
Незнакомый поручик отделился от группы штатских — мужчин и женщин, сгрудившихся у ворот, и направился к нему.
— Вольноопределяющийся! Как ты смеешь не отдавать чести офицеру? Ты думаешь, что эта сволочь долго будет гулять?
Борис остановился и с удивлением поглядел на офицера.
— Что вы, — сказал он, — с ума спятили? Идите домой, если не хотите, чтоб вас пристрелили.
Поручик выругался и быстро пошел в ворота. Борис с радостным удивлением подумал, что еще вчера он должен был бы тянуться перед этим поручиком. Только вчера! А уж казалось, что это было очень давно.
В роте он почти никого не нашел. Но взводный и Семен Грачев были на месте.
От товарищей по роте Борис узнал, что мягкосердечного фельдфебеля чуть не погубило его грубое, совершенно не соответствующее характеру лицо.
Один солдат какого-то другого полка хотел убить его, решив, что фельдфебель с таким лицом не мог не притеснять солдат.
Случившиеся тут два сапера спасли фельдфебеля. Но он был ранен, и его отправили в госпиталь.
Взводный испуганно рассказывал о том, как убивали офицеров.
Он решительно не мог понять, как это могло случиться. Теперь вся рота будет расстреляна. И он говорил, оправдываясь заранее:
— Я никого не убил. Вот, ей-богу, никого! А что я мог сделать, когда сам полуротный на улицу нижних чинов погнал? С него и спрашивайте. А я службу знаю, я старый солдат. Шестой год на военной службе состою. Кадровый.
Семен Грачев ел хлеб: он, как ни в чем не бывало, притащил из Преображенских казарм три буханки. Он слушал взводного и, когда тот замолк наконец, сказал:
— Знают чудотворцы, что мы не богомольцы.
— Да ведь сколько офицеров-то убито! — воскликнул взводный. — Разве дозволено это?
Ратник отвечал спокойно:
— На погосте жить да обо всех тужить — слез не оберешься.
XXIII
К вечеру Борис явился домой. Тело отца, уже обмытое, в новом форменном, почти не ношенном костюме, лежало на столе в гостиной. Борис подошел к телу, не чувствуя ничего, кроме удивления. Мать обняла его и вывела из комнаты, приговаривая:
— Не надо, Боречка, не надо.
Она, очевидно, упрашивала Бориса не плакать. Но Борис и не собирался плакать. В столовой за самоваром сидели незнакомые люди: два инженера и чертежник с завода. При жизни Лаврова эти люди никогда не бывали у него в гостях. Борис удивился тому, что в такой день все-таки три человека пришли к мертвому отцу. Мать сказала ему:
— Сейчас будет панихида.
Юрий с красными, заплаканными глазами подошел к Борису и ничего не сказал — просто встал рядом.
На панихиду явились жильцы соседних квартир, любители церковного пения. Когда священник возгласил «Вечную память», Борису стало жалко отца. Кто вспомнит о нем? Никто, кроме родных.
После ужина все, как всегда, легли спать. Утром Борис не пошел в казармы. Он ходил заказывать гроб и колесницу. Гроб должны были доставить сегодня же, а похороны предполагались завтра.
Анисья, как всегда, подала обед, а после обеда Борис все же побежал в батальон. Ему согласились дать отпуск на три дня.
Услышав, что у Бориса умер отец, Козловский прищурил глаз и сказал:
— Небось насчет наследства соображаешь? — Тут же он крикнул ратнику: — Хлеб есть?
— Бери, — отвечал Семен Грачев.
Теперь Грачев уже не стягивал с ног унтера сапоги. Он совершенно спокойно снял с себя эту обязанность. К смерти отца Бориса он отнесся хозяйственно. Спрашивал, сколько стоит гроб, сколько заплатили священнику. Выспросив все, покачал головой:
— Живет человек — сам себя кормит. А помрет — сколько расходов!
Козловский, жуя хлеб, говорил:
— Теперь всю Расею жечь надо, чтобы дым пошел. И мужиков жечь. Незачем они живут. Это в краткий срок исполнить можно. Губерния горит ровно день. Это уж точно, с ручательством. Мужик горит долго, как хлеб, и дым идет от него желтый. А городской человек и без спички сам сгорает. Для него и огня не нужно. Подымит Расея и провалится. На ее месте пустышка будет — дыра, а заплатать дыру никто не сможет. Кто подойдет — хоть немец, хоть англичанин — все равно ему конец. Никто не видит, что пустышка Расея — дыра, а тогда все увидят.
— Тебя первого пожечь надо, — сказал взводный. — Сволочь этакая.
— В семи огнях был, в семидесяти горел, — отвечал унтер. — Мне сгореть невозможно. Я последним сдохну. Сам в дыру кинусь. Только допрежь того всю Расею пожгу.
А Борис, получив увольнительную, уже шел домой. Он только теперь сообразил, что надо бы сообщить о смерти отца Жилкиным. Он позвонил из дому Наде и сообщил о дне и часе похорон. Клара Андреевна, услышав его слова, закричала совсем по-прежнему:
— Чтобы не было Жилкиных! Я их не пущу! Я их выгоню, если они посмеют прийти!
Но тут же затихла: тело мужа помешало скандалу. Надо было сначала похоронить мужа, а потом уже восстанавливать свой характер. Борис уже досадовал на себя за то, что позвонил Жилкиным: кому это нужно, чтобы они пришли?
Клара Андреевна послала испуганную Анисью в лавку за провизией. Анисья долго не возвращалась. Клара Андреевна, к которой постепенно возвращались обычные черты характера, сама приготовила ужин, приговаривая: