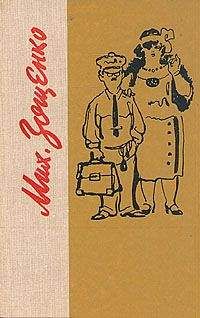Юрий Белов - Год спокойного солнца
— Плохо, — резко сказал Якубов. — Пыль из-под копыт передних достается задним, а кому это поправится?
— Так давайте рядом скакать — все вместе впереди, — с улыбкой произнес Ата. — Куда лучше…
— Это я тебе и предлагаю, — тихо, как бы сожалея о непонятливости собеседника, со вздохом даже ответил Якубов. — Ну да ладно, придет время — поймешь.
Крякнув, тяжело опираясь о подлокотники кресла, он стал подниматься.
— Куда же вы? — растерянно спросил Ата. — Только пришли…
Он и руку протянул, готовый хоть силой удержать гостя, но тот уже выпрямился и отступил от кресла и стола — ближе к двери.
— Пойду. Мои наверное беспокоятся — ушел погулять и пропал.
— Так позвонить можно. — Ага все еще сидел, не желая присоединяться к нему, давая понять, что застолье можно еще продолжить. — Вон телефон… Да и Марал надо пригласить. Все вместе и посидим, вспомним…
— Нет, надо идти, — не сдавался Якубов. — А Марал теперь рано ложится, уставать стала. На улице темно уже.
Они оба глянули в темные окна, и Ата поднялся.
— Вы извините, что так вышло, — виновато улыбнулся он.
— Все хорошо, что ты, — Якубов даже по плечу его потрепал, ободряя. — Я же так просто, повидать…
Провожая его, Казаковы были возбуждены, наперебой говорили те самые слова, которые обычно говорят в таких случаях: что мало побыл, что нехорошо забывать старых друзей и что надо бы как-нибудь собраться всем вместе, посидеть как следует, передавали приветы. Но едва расстались, все почувствовали облегчение, одна только тетушка Биби все вздыхала, и глаза ее полнились слезами.
Оставшись вдвоем с мужем, Мая сказала неуверенно:
— Мне кажется, он как-то странно смотрел на меня, я все время чувствовала себя стесненно.
— Он вообще такой, — успокоил ее Ата. — В управлении его называют Чигирь. Знаешь, это колесо с кувшинами для подачи воды на более высокий уровень. Раньше такие строили. Вращается оно и скрипит, и скрипит…
— Чигирь, — без улыбки, задумчиво повторила Мая, вслушиваясь в слово, оценивая его. — На меня наш директор так смотрел, когда я в брючном костюме пришла на педсовет.
— Этот Чигирь тоже всех осуждает, — отозвался Ата. — Но ты внимания не обращай, черт с ним совсем. Других забот что ли нет?
А Якубов, заложив руки за спину, неспешно шел по улице, погруженный в свои размышления. Казаков-то!.. Каков наглец! Предлагает догонять его и скакать с ним рядом. Молоко еще на губах не обсохло, а туда же — учить. Нет, с ним церемониться нечего. Таким дай волю, они стариками командовать начнут, верхом сядут да плетью погонять будут. Осадить, поставить на место, чтобы помнили, кто есть кто.
16«Посиди со мной, сынок. Что-то сердце побаливает. Нет, нет, доктора не надо. Я валерьянки выпила, пройдет. Ты со мной посиди — это для меня лучшее лекарство. Ты просто посиди, а я расскажу тебе, что хочешь. Какой ты маленький был? Хорошо, расскажу, какой ты был маленький. Маленькие дети все хорошие. Сейчас ты тоже хороший, а маленький — ну просто загляденье. Закрою глаза и вижу, как ты по саду идешь. Все цветет, весна. Пчелы жужжат, сладость в цветках собирают. Птицы гнезда вьют, перышки, веточки собирают, тащат к себе. Солнце теплое и земля теплая, сухая. Трава зеленая-презеленая. И ты идешь по теплой земле босыми ножками. Первые свои шаги делал той весной, которая для отца последней стала.
Он тоже радовался и цветущим этим деревьям, и ласковому солнцу, и зеленой траве на теплой земле, а больше всего — что ты на ножки встал и пошел.
Ящерка из щели выползла, греется. Ты ее увидел, руки протянул, она и шмыгнула обратно. Ты на меня смотришь и на отца: что, мол, за зверь такой? Все тебе интересно было в ту первую свою весну, только-только на ноги встал, мир перед тобой во-он какой просторный раскрывался…
Уезжая, отец поднял тебя высоко, ты смеешься, боязно тебе немного и радостно в вышине. „Хочешь летчиком быть? — спрашивает отец и тоже смеется. — Нет, мы колодцы будем рыть. В пустыне нет более уважаемой профессии“.
Я-то знала, почему он так сказал. Это он Назара вспомнил, ты знаешь о нем, я тебе рассказывала. А уж у Казака он с уст не сходил, чуть что — Назар бы не одобрил, или Назар бы доволен был. Я понимаю: он для Казака как бы укором был. Назар поехал, а Казак остался. Друзьями были закадычными, один за другим, как нитка за иголкой, а тут врозь. Правда, годами Назар старше был, женился уже, сына имел. Казак же в парнях ходил. Назар уже колодезным мастером слыл, а Казак только приглядывался да ума-разума набирался у мастеров. Но сдружились, что-то сблизило их. В колхоз вместе вступили, на курсы ликбеза вместе ходили, грамоту постигали. А вот в Москву Казак не поехал. Тогда он другу не мог объяснить — почему. Это мне потом открылся. Из-за меня ведь не поехал. Полюбил, боялся, что пока учиться будет, меня за другого отдадут. А когда басмачи письмо от Назара зачитали и призывали народ подниматься против иноверцев, против Советской власти, Казак первым сказал, что не верит, что не мог такое Назар написать. Его чуть не убили за это. А потом смилостивились, в живых оставили, Тачмамед-бай даже письмо ему оставил, разорвал на две части и сунул в рот: на, подавись, если не веришь, а когда поверишь, придешь к нам, покажешь, как пропуск, примем. Казак все надеялся, все ждал весточки от Назара, да не дождался. Поженились мы перед самой войной, Казак на фронт ушел, а когда после войны вернулся, следы Назара совсем затерялись. Казак поступил в бригаду колодезных строителей, в поселке появлялся наездами. В ту весну, когда ты первые шаги делал, ему в пески ехать предстояло. Попрощался с нами под цветущими деревьями, потрепал тебя по голове и сказал: „Расти скорее, вместе будем колодцы рыть“. И пошел к машине. Полуторка его ждала на улице. Заурчал мотор, пыхнуло сипим дымом из трубки, и укатили они новый колодец рыть. А через месяц на той же полуторке примчался бригадир, лица на нем нет. Я как глянула, так все и поняла. Подхватила тебя, кинулась обезумев: вези. Нельзя мне было так, не положено женщине. Но я не могла иначе. Бригадир слова не сказал, велел ехать. Быстро машина мчалась, а сердце мое разбитое еще быстрее летело, оно уже там было, на дне колодца, под обвалившейся породой, вместе с Казаком. Ничего не помню, себя не помню, а черную дыру в земле помню. И человека рядом на коленях, молящегося. Я в эту темную дыру, откуда на меня прохладой пахнуло и сырой землей, бросится готова была, да бригадир удержал, про тебя напомнил, что сына растить мне… Люди, которых он привез, а я их и не заметила, быстро, напеременку взялись откапывать, без передыху работали, а я слепыми глазами смотрела, как они землю из глубины поднимают ведром, ссыпают, и гора эта растет, видно, много ее на бедного Казака обрушилось. От пули уберегся, от снаряда, от бомбы вражеской, а тут могилу себе нашел, да такую, что откапывать надо… Война давно кончилась, похоронки почтальон никому уже не приносил. А я вдовой фронтовика стала. Кто же подумать мог…
Мы вдвоем с тобой остались. Сначала в селе своем жили, да трудно было. Время-то какое было. Мужчин по пальцам перечесть, работы невпроворот, а еще ребенок, ты то есть. Яслей тогда в колхозе еще не было, вот и крутились, как знаешь. Спасибо Якубу, он мне родственником каким-то дальним приходился, как-то приехал, увидел, как живу, давай, говорит, переезжай в город, там легче будет. Жену у него паралич разбил, а детей одиннадцать душ, старший в Баку уехал учиться, а остальные при нем. А где одиннадцать, там и двенадцатый прокормится. Стали мы вместе жить. А Якуб пост большой в торговле занимал, так что недостатка ни в чем не было, мое дело за несчастной Айной ухаживать и за детьми, а уж на базар ходить или в магазин — такой заботы и не было, все, что нужно, привозили. Ну, не одна я, конечно, старшие девочки помогали. И все бы хорошо, да новая беда пришла, откуда и не ждали.
Осенью ты приболел, с горлом что-то и температура. Спал плохо, просыпался среди ночи, плакал. Я тебя на руки взяла, вышла, чтобы хозяев не будить. Тихо было, безветренно, листок на дереве не шелохнется, и темно. Ты согрелся у моей груди, затих. Поезд по железной дороге прошел, простучал колесами, и снова тишина. Звезды в черной вышине мигают. Я смотрю вверх, ищу звезду счастья, чтобы посветила она тебе, дала окрепнуть, вырасти, в люди выйти, мне на старости лет утешением стать…
Собака завыла где-то, жалобно так, прямо душу воротит. И наш дворовой пес забеспокоился, загремел цепью, стал к ногам моим ластиться. „Кыш, — говорю ему, — не разбуди маленького“.
Вдруг, под землей гул прошел, я не поняла, что такое, даже испугаться не успела, только оглянулась на наш дом, на его темные окна. И тут меня так толкнуло в пятки — еле на ногах устояла. Дом на моих глазах содрогнулся, затрещал, исказился как-то… Я закричала со страху. А земля еще раз меня по ногам, они и подкосились. Стоя на коленях, тебя прижимая к груди, увидела я, как рухнул наш дом. Пыль столбом поднялась, ко мне волной подкатилась, дышать нечем, глаза не видят ничего. Грохот слышу, треск, крик чей-то душераздирающий, а сама с колен подняться не могу, словно окаменела. Только когда ты закопошился, закашлял, заплакал, ко мне силы вернулись. Вскочила, отбежала, где пыли поменьше, тебя на руках укачиваю по привычке, бормочу что-то успокаивающее, а сама ничего не соображаю, от ужаса всего этого…