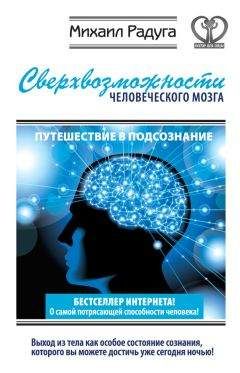Михаил Слонимский - Лавровы
— Его фамилия Лавров? — припомнил Клешнев. — И отец его — инженер? Я знавал инженера Лаврова. То есть он тогда еще не был инженером. Он кончал институт. Его звали Иван Николаевич. У меня дурацкая память на лица, фамилии, цифры. Кстати: мне было двадцать три года, когда я сидел в киевской тюрьме. Я напрасно усомнился.
— Это тот самый, — сказал Жилкин. — Иван Николаевич Лавров. Наши отцы очень дружили.
— Я встречал его много лет тому назад в одном кружке. Потом он исчез. Одно время он, кажется, был довольно деятельным работником. Он бывает у вас?
Жилкин приподнял широкие плечи, развел руками, и сглаживающая резкие слова улыбка появилась на его бородатом лице, как всегда, когда он хотел сказать о ком-нибудь неприятное:
— Нет, он не бывает. Он мне не совсем нравится. Он, несомненно, честный и неглупый человек, но в нем не хватает какого-то понимания. А с его женой мы в решительной ссоре — это невозможная женщина. То есть…
Клешнев перебил, усмехаясь:
— Представляю, что это за семейка.
— Он женился и совсем отошел от нас, — продолжал Жилкин и прибавил: — А Боря — прекрасный юноша. Совсем не в родителей. А отца его я все-таки жалею: в молодости он подавал большие надежды. Бедствовал ужасно. За женой он взял большие деньги — она из богатой семьи.
— Да? — спросил равнодушно Клешнев. Эта тема, видимо, не слишком его интересовала. — А вы знаете, что я делаю сейчас в Питере? Работу на заводе ищу. У меня теперь легальный паспорт. Гуляю по Питеру свободно. Самая сейчас работа на заводе и в армии. Я ведь все-таки квалифицированный токарь.
— Идите ко мне в секретари, — предложил этнограф.
— Спасибо, — отвечал Клешнев. — Если не удастся на заводе…
В передней послышались шум и говор. Жилкин вышел. Это одевались Борис и Надя. Надя объяснила:
— Мы в кинематограф, в «Сатурн».
Жилкин, вернувшись в кабинет, сказал Клешневу:
— Вот как раз Борис тут. Он ушел сейчас с Надей. — И прибавил: — Я думаю, что Толя убит. Он предупреждал, что не выстрелит даже тогда, когда это нужно будет для самозащиты.
Жилкин усиленно мигал, и глаза у него краснели.
Надя и Борис шли на угол, к трамваю. Жилкины жили на Большом проспекте, невдалеке от Каменноостровского. В этот вечерний час на улице толпилось много народу. Борис то и дело козырял офицерам, а один раз вытянулся во фронт перед генералом. Надя забавлялась, глядя на него. А Борис уже волновался: увольнительная записка давала ему право на жизнь и после восьми часов вечера, но в кинематографе, особенно в таком шикарном, как «Сатурн», нужно было каждую минуту спрашивать разрешения у старшего чином, стоять в антрактах. Удовольствие превращалось в муку. И он уже раскаивался, что предложил Наде идти в «Сатурн».
На углу Большого и Каменноостровского они сели в трамвай. Надя хотела войти внутрь вагона, но Борис задержал ее на площадке:
— Мне туда нельзя.
Надя удивилась, но послушалась. Чуть трамвай тронулся, на площадку, вскакивая на ходу, набилось столько солдат, что Борис совсем помрачнел.
На предпоследней перед Троицким мостом остановке трамвай после звонка кондукторши не тронулся с места. Борис понял, что это значит: патруль военно-полицейской команды. Он стоял в глубине и не мог соскочить, как некоторые, до остановки. Да он и не стал бы: его стесняло присутствие Нади.
На площадке осталось шесть солдат. Они в ужасе кинулись к противоположному выходу из вагона. Но и там уже стояло двое патрульных с винтовками и красными повязками на рукавах — вагон был оцеплен.
Борис заглянул внутрь вагона: у входа на переднюю площадку стоял унтер. Значит, там все кончено: солдат ссадили. Теперь примутся за заднюю площадку. Прапорщик с совсем новыми погонами, должно быть только что произведенный, на миг появился на площадке и снова нырнул в уличный сумрак. И в следующую минуту молодой солдат взял Бориса за плечо:
— Сходи!
Борис сдернул его руку с плеча.
— У меня билет.
И он показал трамвайный билет.
— Сходи! — злобно закричал патрульный. Видимо, он был очень недоволен своей ролью и хотел как можно скорее от нее отделаться.
Надя молча глядела на все это. Ей было ясно, что помочь она тут ничем не может. Теперь она припомнила жалобы Бориса на запрещение ездить в трамваях, раньше она никогда не обращала на них особого внимания.
Борис сошел с трамвая и оказался в кругу конвойных вместе с семью такими же, как и он, солдатами. Арестованных повели во двор: переписать и отправить в комендантское управление. Борис шагнул один раз, второй, а на третий раз, как будто случайно, запнулся. И тогда конвойный, шедший сзади, тихо потянул его за полу шинели.
— Теки! — сказал он.
Это был тот самый конвойный, который так злобно согнал его с трамвая.
Борис не задумался ни на секунду: он сразу же ринулся из круга конвойных вдоль трамвайной линии. Кто-то крикнул: «Держи!» И еще: «Лови его!» Люди, следившие за солдатом, убежавшим из-под конвоя, думали, должно быть, что это опаснейший преступник — убийца или шпион. Никто бы не поверил в то, что суета на Каменноостровском проспекте возникла по такой пустяковой причине.
Трамвай набирал ход, и Борис никак не мог обогнать его, чтобы перебежать рельсы, хотя он мчался по проспекту стремительнее, чем в атаку. Все — сзади и справа — гнались за ним. Каждую секунду враг мог оказаться впереди. А слева — проклятый трамвай, который не отстает и не перегоняет. Податься Борису некуда. А за бегство из-под конвоя полагается наказание почище обычных дисциплинарных взысканий. Военная тюрьма, штрафной батальон…
Вагоновожатый на всем ходу остановил трамвай: он заметил и понял солдата. Борис дернулся влево, перебежал рельсы, и вагоновожатый тотчас же снова дал полный ход трамваю, отделив Бориса от преследователей. Борис никогда не узнал, кто был этот вагоновожатый. Он так же мелькнул в его жизни, как тот пулеметчик, который спас ему жизнь в поле за Наревом.
С того момента, когда конвойный потянул Бориса за полу шинели, прошло не больше двадцати секунд. А через десять секунд Борис уже затаился на первом же дворе, забежав далеко вглубь, к помойке. Там он перевел дыхание: он был жив и спасен. Отдышавшись, он вышел на Каменноостровский проспект. Те, что гнались за ним, уже бесследно исчезли. Трамваи, экипажи и люди ежеминутно сменялись на этом перекрестке. Борис двинулся пешком по панели к Троицкому мосту. В том, что случилось с ним, ничего неожиданного или необычного не было. Он был даже доволен: по крайней мере избавился от необходимости идти в кинематограф. И чего это ему взбрело в голову развлекаться не вовремя!
Против памятника «Стерегущему» Бориса остановила Надя. Она ждала его тут:
— Что это такое?
Борис пожал плечами:
— Ничего особенного. Самое обычное дело. Ты извини, что так глупо получилось.
Надя вдруг заплакала. Борис растерялся. Сам он плакал в последний раз шести лет от роду. Тогда восьмилетний Юрий без всякой причины хлопнул его по щеке. Борис заревел во всю глотку не столько от боли, сколько от неожиданности и еще от того, что брат слишком всерьез ударил его, по-взрослому. С той поры ему не приходилось плакать, хотя причины бывали. Он как-то сразу и навсегда поверил отцу, что плакать стыдно и не к чему. Он привык дома не к плачу, а к истерикам, которые ненавидел. А тут девушка плакала без всякой истерики, еле слышно всхлипывая. Было жалко глядеть на нее, но Борис совершенно не понимал, как ее успокоить. Он пробормотал:
— Что ты?.. Успокойся… Что с тобой сделалось?
Прохожие с усмешкой оглядывались на солдата с «георгием» на груди и на плачущую девушку: обольстил, наверное, а теперь на попятный!
Вдруг Надя перестала плакать, отерла глаза рукавом пальто и сказала:
— До свиданья, и, пожалуйста, не провожай меня.
Она быстро пошла прочь.
Борис шагнул вслед за ней, но остановился. Он ничего не понимал. Потом догадался: ведь для нее все то, к чему он так привык на улицах Петрограда, совершенно неожиданно и необычно. Неужели же положение солдата до такой степени тяжело, что может даже довести до плача? Размышляя об этом, он медленно шел к мосту. Все-таки это хорошо, что они не попали в «Сатурн». Завтра к шести утра надо быть в казарме. По крайней мере он успеет выспаться.
А Надя выплакалась окончательно только к двум часам ночи. Она никому не созналась бы в том, почему плакала. И никому не сказала бы еще того, что ей все-таки было мучительно стыдно, когда с ее Борисом обошлись так грубо, а ему пришлось покориться.
XVIII
Николай Жуков выписался из госпиталя только к зиме шестнадцатого года. На комиссии он был признан годным в пехоту и назначен в Волынский полк. Его соседа по койке, усатого унтера, комиссия тоже признала годным, хотя тот прихрамывал. Унтер был заслуженный, с тремя «георгиями», и сам просил оставить его в армии. До войны он жил в далекой деревне вдвоем с сыном. Теперь сын его уже никогда не вернется в родную деревню: он погиб в прифронтовом госпитале, как тот молоденький самокатчик. За вольные слова о земле, сказанные офицеру, сын попал в штрафную роту, а и сказал-то он только то, что за войну, за все страдания крестьянству будет дана земля. Вот и все. Какое же в том преступление? Унтер спросил об этом Николая, а тот ответил неожиданно: