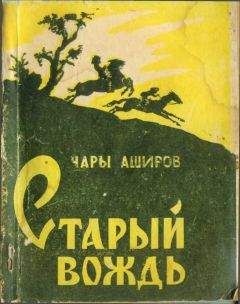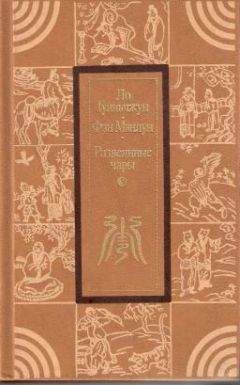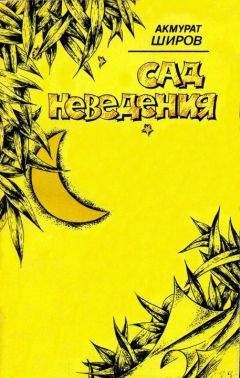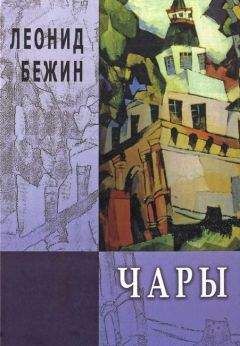Казимеж Брандыс - Граждане
Постылло остановился на пороге. Он в эту минуту и в самом деле напоминал разъяренного хомяка.
— Встать! — скомандовал он, поджав губы.
Встали только несколько подхалимов на первых скамьях. По рядам пошел глухой ропот презрения.
— Я сказал: встать! — повторил Постылло тихо, а глаза его так и шныряли по лицам учеников.
Они стали подниматься медленно и неохотно, шаркая ногами. Когда все встали, раздался голос Видека:
— Налево кругом!
Человек двадцать вмиг поняли его и дружно повернулись спиной к учителю.
— Налево кругом! — повторил Видек высоким, звонким голосом.
Снова пошел по залу скрип скамей, шарканье. Трусов повертывали силой. Поднялся шум, толчея. Постылло выбежал из зала. Семьдесят учеников, все еще стоя спиной к двери, задорно и возбужденно грянули хором песню «Миллионы рук…»
— Очень недурно, Вейс! — одобрительно сказал Свенцкий. — По истории Польши ты мог бы хоть завтра сдать экзамен. А теперь, — с явным удовольствием обратился он к Збоинскому, — скажи мне, ошибка природы, что тебе известно о связи между польским и русским национально-освободительным движением в девятнадцатом веке?
Збоинский, косясь на него из-под растрепанного рыжего чуба, начал со связи партии «Пролетариат» с русскими революционерами.
— А до того? — спросил Свенцкий, качая головой. — До того, по-твоему, ничего не было?
Збоинский, промямлив что-то о Герцене и Ворцелле, запнулся и умолк.
— Ну? — грозно настаивал Свенцкий.
— Декабристы, — шопотом подсказал Вейс.
Свенцкий спрыгнул со стола.
— Да, декабристы, — заговорил он, шагая по комнате. — Декабристы… Помните, как о них сказал Моравецкий? «Пять славнейших звезд в истории Европы». Он любит про них спрашивать. Запомните хорошенько имена пяти повешенных: Рылеев… Пестель…
— Муравьев-Апостол, — басом подхватил Шрам.
— Бестужев…
— Каховский…
Вейс добавил тихо:
— Когда вешали одного из них — кажется, Пестеля, — веревка оборвалась. В таких случаях применяется закон о помиловании. Но его повесили вторично.
Наступило молчание. Свенцкий вдруг остановился посредине комнаты.
— Слушайте, — сказал он сердито. — Я хочу все понимать и знать. Ясно? Хочу мыслить и ничего не принимать на веру…
Он не договорил и отвернулся к окну. Никто не понял, зачем он это говорит.
— Внимание! — сказал Антек, включая радиоприемник.
Все посмотрели на будильник. Было ровно половина девятого. Раздался голос диктора:
— Через минуту мы будем передавать судебный процесс Адама Дзялынца и его сообщников, представших перед воеводским судом по обвинению во вредительских действиях, направленных против Народной Польши.
Глава шестая
Голос Дзялынца сначала показался Моравецкому каким-то новым, изменившимся, но не прошло и двух-трех минут, как он узнал знакомый ему уже столько лет холодный, металлический его тембр. Да, говорил Дзялынец.
Нелегко было Моравецкому освоиться с тем, что случилось. Голос, выходивший из небольшого эбонитового ящика, принадлежал человеку, который еще недавно, сидя вот тут, в кресле, брал из рук Кристины чашку чая. В этом самом кресле сидел Дзялынец несколько лет назад, слушая трансляцию судебного процесса фашиста Добошинского, обвиняемого в шпионаже. И когда огласили смертный приговор, он презрительно пожал плечами: «Бандит… Методы времен Барской конфедерации. Даже безумцы у нас какие-то косные».
Сначала Моравецкому показалось, что голос Дзялынца доходит непосредственно из зала суда, и суд происходит именно сейчас. Ясно слышно было шуршание бумаг на столе и глухое покашливание в публике. Только потом он сообразил, что это отдельные моменты процесса записаны на пленку, и то, что он слышит, происходило несколько часов назад.
В обрывки показаний Дзялынца через почти регулярные промежутки врывался баритон комментатора. Его объяснения имели характер обличительный, а временами саркастический. Этот третий голос — после голосов подсудимого и судьи — был как бы голосом невидимой инстанции, существующей наряду с законом, и с ним Моравецкому труднее всего было мириться. Быть может, потому, что диктор говорил с аффектацией второстепенного актера.
На вопрос председателя: — Обвиняемый, признаете ли вы себя виновным? — в радиоприемнике прозвучал ответ:
— Признаю, что я виновен с точки зрения законов, действующих ныне в Польше.
То не был голос сломленного человека. И жадно слушавший его Моравецкий испытал смешанное чувство облегчения и досады. Слова Дзялынца показывали, что он не отказался от борьбы и сохранил свободу воли.
Диктор сказал: — Обвиняемый с циничным спокойствием признался в своей предательской деятельности.
Моравецкий впился пальцами в ручку кресла. «Не подсказывай ты мне, — обращался он мысленно к комментатору, — не мешай мне самому судить этого человека».
В первый день процесса радиопередача была короткая: отдельные пункты обвинительного акта, несколько вопросов к подсудимым, их ответы. Обвинялось пять человек, и все признали себя виновными. Из них Моравецкий знал одного лишь Дзялынца. Кроме него, в этой группе был офицер довоенной армии, какая-то служащая, дочь помещика, и два деятеля правого подполья времен оккупации. Один из них сказал усталым, разбитым голосом: — Сознаюсь во всем и сожалею… Это было мое несчастье. — Вслед за его словами послышался кашель председателя. Потом заговорил диктор:
— Вот прошли перед нами пять политических банкротов, пять закоренелых врагов Народной Польши, участвовавших в обреченном на провал заговоре против власти рабочих и мирного строительства нашей родины. На первом плане в этой группе преступников — фигура Адама Дзялынца, интеллигента, педагога, который учил польскую молодежь ненавидеть Народную Польшу.
Моравецкий уже протянул было руку, чтобы выключить радио, но передумал и слушал дальше с закрытыми глазами. Опять охватило его то же странное смешанное чувство досады и мучительной виноватости.
«Это страшно, — подумал он. — Но он, по крайней мере, не лжет».
Смерть Кристины создала пустоту не только в жизни Моравецкого: и в душе его обнажилось уже давно существовавшее пустое место.
После похорон его повседневное существование стало бессодержательным и ощущалось им, как тяжкое, неживое бремя, которое сам он в редкие минуты раздумья называл «бременем пустоты». При более глубоком анализе он пришел бы к выводу, что это состояние — своего рода болезнь: из всех жизненных инстинктов сохранились в нем только физиологические да еще способность автоматически выполнять обязанности. Он ел, ходил на уроки, возвращался домой, опять ел. Никогда он не предполагал, что горе может быть так похоже на лень и скуку. Вокруг что-то делалось, происходили какие-то события, о них говорили, писали в газетах. Было бы преувеличением утверждать, что он оставался ко всему совершенно равнодушным. Нет, он слушал разговоры, читал хотя бы заголовки статей. Но внешние события доходили до его сознания смутно — быть может, глухие так воспринимают звуки. Иногда ему самому приходила мысль, что душа его как бы оглохла.
А порой казалось, что жизнь кончена, что смерть Кристины, как пожар, испепелила все. Сгорел весь архив его чувств, мыслей, воспоминаний. Осталась страшная свобода погорельца. В одну ночь он стал человеком от всего свободным, ни единой нитью не связанным с окружающим миром. И это, пожалуй, было самое худшее.
Первым живым существом, вторгшимся в его новое существование, была уборщица Вонсовская, сестра дворничихи. Моравецкий не протестовал, когда она однажды явилась наводить порядок в квартире. Он дал ей необходимые указания, разрешил выколотить ковер и с большим облегчением убедился, что женщина эта не болтлива. Он не помнил даже, какая у нее внешность. К его возвращению из школы комната была чисто прибрана, в кухне все вымыто до блеска, а на письменном столе стояла фотография Кристины, которую он наутро после похорон спрятал в комод среди белья, и подле нее — букетик одуванчиков. Моравецкий сел у стола, понюхал одуванчики и долго всматривался в фотографию. Хотел было опять убрать ее в комод, но не сделал этого. Решил только завтра сказать Вонсовской, чтобы больше не приходила.
Но на другой день он забыл о своем намерении. Проснулся рано, окно в комнате было открыто, и с улицы доносилось бренчание жестяных бидонов и веселый цокот копыт. Теплый ветерок шевелил штору. Моравецкий закрыл глаза, пытаясь оживить в памяти какой-нибудь день своего далекого детства, когда его будили такие же звуки. В кухне вдруг послышались мелкие шажки, кто-то там ходил и напевал. Моравецкому не хотелось открывать глаза. С минуту он лежал неподвижно и воображал, что это в кухне мать готовит дымящийся ячменный кофе, и можно опять зарыться головой в подушку. Но он скоро очнулся и пошарил на ночном столике, ища очки. Пришла мысль, что такие мгновения время неумолимой рукой отрывает от жизни: с годами человек перестает быть светочувствительной пластинкой, грубеет, становится жестче и, в конце концов, к нему приходят уже только тени пережитого. Он посматривал на свою руку, словно не веря, что она была когда-то рукой мальчика.