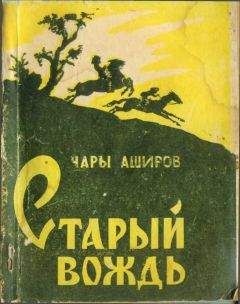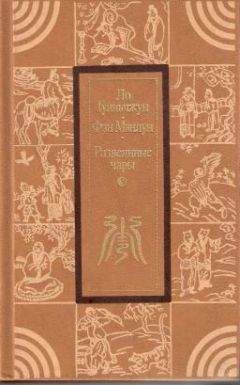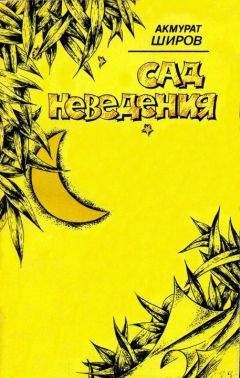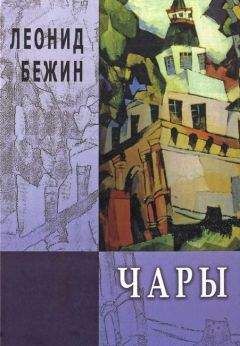Казимеж Брандыс - Граждане
— Это одиннадцатый класс играет в баскетбол, — объяснила она. — Весной здесь работать просто невозможно, — так они галдят под окнами. Только перед выпускными экзаменами становится тише.
— Ну, до них уж недолго, — сказал Моравецкий вставая.
Выйдя из канцелярии, он еще постоял за дверью — ему казалось, что он не то забыл о чем-то спросить, не то сделал какую-то неловкость. Из открытых окон тянуло теплым ветром. «Теперь уж недолго», — повторил он про себя. На лестнице тряслись перила, на полу играли солнечные зайчики. Бежал куда-то на кривых ногах Реськевич, бренча ключами. — Эй, Рыжик! — кричал голос в глубине двора. — Ры-жик! Эй!
«Куда он так бежит?» — соображал Моравецкий, глядя вслед сторожу. А Реськевич бежал загонять учеников в классы. — Входите, перемена кончается! — взывал он тонким голосом. — Ры-жий! — все еще надрывался кто-то во дворе. — Эй! Эй! — Это звали Збоинского, который с мячом бежал к сетке. Он обогнал нескольких мальчиков, один из них даже перекувырнулся от толчка. Кто же это? Ага, кажется, верзила Шрам! А «Рыжик» под общий рев вынырнул уже под самой сеткой и легким толчком метнул мяч.
— Попал! — обрадовался Моравецкий.
— Они и в меня попадают! — горестно вздохнул Реськевич. Потом оглянулся, чтобы посмотреть, кто это стоит за ним.
— А, это вы, пан профессор? — удивился он при виде Моравецкого и, вдруг смутившись, забренчал ключами, потоптался на месте и ушел.
«Что его так удивило?» — подумал Моравецкий. Ему хотелось поговорить с Реськевичем.
— Доброе утро! — он кивком ответил на поклон одного из учеников, возвращавшегося с площадки. Тот внимательно уставился на него, и вдруг Моравецкий увидел, что это юный учитель польского языка Кшешович, который заменил Дзялынца. Этот малорослый, худой юноша с впалыми щеками и пушком на верхней губе всегда смотрел на Моравецкого как-то особенно пытливо и строго.
— Привет, коллега, — поздоровался Моравецкий, мысленно благодаря бога, что во-время его узнал. Кшешовича трудно было отличить от учеников.
Появление Моравецкого на школьном дворе произвело своего рода сенсацию. Мальчики, прервав игру, подходили группами. Збоинский держал мяч за ремешок. — Здравствуйте, пан профессор! — закричали все хором еще за несколько шагов.
А Моравецкий обводил глазами разгоревшиеся лица. Поймал настороженный взгляд Вейса из-под темной, мягко очерченной линии бровей.
— Ну, как ваши предэкзаменационные обязательства? — спросил он с легким беспокойством.
— Все будет в порядке, пан профессор, — отозвался кто-то.
— На днях устрою вам проверку, — предупредил Моравецкий. — Буду гонять по всему курсу.
Мальчики стояли в нерешимости.
— А может, лучше… ну, так через недельку?
— После первомайского собрания, — предложил кто-то в виде компромисса.
Моравецкий сделал жест, означавший: «Ладно, договорились!» Заметил, как впились в него глазки Свенцкого. Толстяк отирал платком потную шею. А рядом с ним стоял Антек Кузьнар. И на всех лицах учитель видел улыбки, смысл которых был ему непонятен. «Что это со мной было?» — мелькнуло у него в голове. Он вдруг смутился и поспешно ушел в вестибюль.
На другое утро он добрых три часа проторчал в коридоре жилищного отдела. Его отсылали из комнаты в комнату, и он ждал терпеливо, сдавшись на милость секретарши. Выяснилось, что начальник на совещании и вернется к десяти. В одиннадцать он, наконец, принял Моравецкого, прочел письмо дирекции и, черкнув что-то на полях, направил Моравецкого на второй этаж. Там опять пришлось ждать в толпе просителей. Только около двенадцати он услышал, что выкликают его фамилию.
— В деле вашем есть неясность, — объявил ему сотрудник отдела. — Из квартиры, которую вы, гражданин, занимаете, кто-то, повидимому, недавно выбыл.
— Моя жена. Она умерла, — пояснил Моравецкий.
Сотрудник сказал, что это меняет дело и что следует представить свидетельство о смерти, заверенное в отделе прописки. Потом, взглянув на письмо с резолюцией начальства, равнодушно кивнул головой:
— Ну, теперь все в порядке. Вы можете спать спокойно. Конечно, после того, как доставите нам свидетельство о смерти вашей жены.
Моравецкий поблагодарил и ушел. Он успел вернуться в школу к пятому уроку в одиннадцатом «А». В учительской застал Постылло, и тот притворился, что не видит его, но Моравецкому некогда было над этим задумываться, так как уже прозвенел звонок. Он вошел в класс.
В классе царила тишина и какое-то праздничное настроение. Моравецкий подмечал устремленные на него быстрые, внимательные взгляды. На этом уроке он говорил об источниках польского фашизма и вернулся далеко назад, чтобы показать социологическое единство шляхетско-мещанской группы в конце прошлого века, несмотря на мнимый «раскол» в ней. По-своему — убедительно и не стесняясь в выражениях — обрисовал он фигуры двух вождей фашистов, Дмовского и Пилсудского, этих «идеальных героев» мелкой буржуазии и обнищавшей шляхты. Историческими анекдотами иллюстрировал их характерные черты и доказывал, что наивные люди в те времена считали «классовой борьбой в Польше» то, что по существу было просто ссорой стряпчего с кравчим[39].
Впервые за много недель Моравецкий чувствовал, что сумел своей лекцией увлечь всех учеников. Они любили его отступления, острые словечки и меткие суждения, которые он бросал, большими шагами ходя по классу. То были лучшие минуты в жизни Моравецкого — минуты, когда он чувствовал себя богатым и щедрой рукой раздавал свои мысли. Кристина часто спрашивала его: «Почему бы тебе не написать всего этого и не напечатать где-нибудь?» — А он удивлялся: «Да разве недостаточно того, что мальчики слышат? Пожалуй, они даже были бы недовольны, если бы я это напечатал». Но Кристина иногда не хотела понять его.
Он начертил на доске диаграмму, по форме напоминавшую бумажного змея. Вверху поставил цифру «1863», а от нее провел разветвленные линии к трем точкам: «Польская лига»[40], «сумерки позитивизма», «правое крыло ППС». От них отвесно вниз шли параллельные прямые к «эндекам»[41] и «санации» и, наконец, он соединил их в одной точке, над которой написал «Озон»[42].
— Между этими линиями, — сказал он, счищая с рук мел, — заблудилось много людей. — Он задумался на мгновение и добавил: — Но, разумеется, набросок этот довольно схематичен.
Подойдя к кафедре, Моравецкий только сейчас заметил, что рядом с чернильницей кто-то поставил в стакане букетик фиалок. Он наклонился над классным журналом, притворившись, что не видит цветов. В классе наступила тишина. Уголком глаза Моравецкий поймал взволнованный и застенчивый взгляд Вейса. На задних партах перемигивались и обменивались сигналами. Через минуту прозвенел звонок, и Моравецкий встал, торопливо захлопнув журнал. Однако раньше чем сойти с кафедры, он неловко взял фиалки из стакана. Украдкой взглянул на них и пробормотал: — Спасибо!
А позднее, оставшись один в учительской, он положил на ладонь и осторожно понюхал нежно благоухавшие фиалки. Они ничем не были перевязаны, и Моравецкий с легким беспокойством начал шарить в карманах: нашел не веревочку, а какой-то заскорузлый и ветхий обрывок шнурка от ботинок, бог весть откуда затесавшийся в карман его пиджака. Им он заботливо перевязал букетик, не слишком туго, чтобы не искалечить стебельки.
Когда он после уроков возвращался домой, улицы были еще залиты весенним светом. Он пошел пешком, расстегнув пальто и бережно придерживая рукой в кармане влажные фиалки. Он беспрестанно напоминал себе, что дома ждет его важное дело, которое нужно сделать как можно скорее, — и тогда прибавлял шагу, почти бежал, оставляя позади прохожих, грохот и гам.
Дома он поставил фиалки в вазочку подле портрета Кристины, и на душе у него стало удивительно легко и покойно. Погладил цветы кончиками пальцев. Лепестки чуточку смялись, но не утратили своего аромата.
Только сейчас Моравецкий почувствовал, как сильно он устал. Когда Вонсовская подала обед, она застала его за письменным столом. Он сидел в пальто, сгорбившись, бледное лицо его было потно. Она помогла ему снять пальто, а он улыбался и говорил тихо: — Спасибо… спасибо.
2На второй день процесса допрашивались обвиняемые и свидетели. Все чаще звучал выразительный и внятный бас прокурора. Слушая его, Моравецкий представлял себе молодого человека с лицом смуглым и суровым. Прокурор задавал лаконичные деловые вопросы, употребляя по временам термины диверсантов и разведчиков. Обращаясь к Дзялынцу, начинал так: — Подсудимый Дзялынец, скажите… — Дзялынец отвечал четко и коротко.
Организация, к которой он принадлежал, была преемницей одной из групп «лондонского подполья» военных лет. Назывались псевдонимы людей, бежавших за границу, фамилии вожаков польской эмиграции.