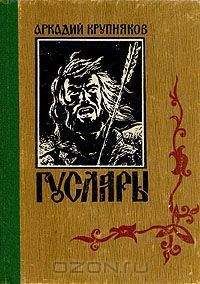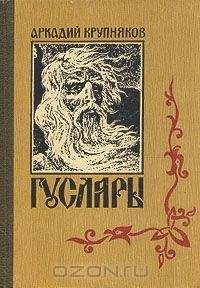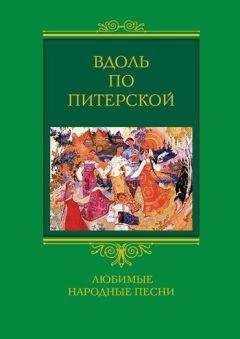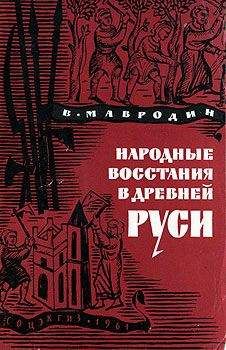Хамид Исмайлов - Мбобо
А могильщик остался приглаживать могилу. Но как только автобус выехал с кладбища, он, наверное, взял свой шанцевый инструмент и пошел складывать его в сарайчик, чтобы после этого пойти домой на обед.
И дед — полковник Ржевский — остался в земле один.
Неделю спустя, вернувшись из Сибири, мы шли по «Белорусской»-кольцевой к «Белорусской»-радиальной, и я представлял себя попеременно то толпой, возвращающейся с кладбища, то, глядя на дядю Глеба, — могильщиком, несущим свой инструмент в сарай, то, когда мой взгляд падал на каменное лицо мамы, — дедом, оставленным навсегда в той холодной сибирской земле.
Что должен был чувствовать он, освободившийся ото всех, но и оставленный всеми? Тот, который назвал свою первую дочь самым дорогим для себя именем — Москва, но избивал ее в детстве так, что она, бедная, описывалась от страха, отчаянья и бессилья. Тот, кто безгранично верил в свою власть надо всеми своими детьми, кто проклял дочь, родившую ему первенца-внука. Что мог чувствовать в мерзлой и одинокой земле он, гнобивший своих близких и не имевший друзей, проживший по принципам и не веровавший в Бога?!
Позади нас оставалась некая каменная семейка белорусов, среди коей возвышалась одна, похожая на мою маму, но я старался не оглядываться на них и уставился себе под ноги, на мелкоплиточную мозаику белорусских узоров — рубашку с такими узорами носил в молодости дед, — я видел это на фотографии, которую мама прятала в книжке некоего Г.Мало под названием «Без семьи».
Должно быть, даже эта каменная семейка — и та счастливее нашей, частью живой, а частью уже мертвой, — думал я, двигаясь к переходу, и уже на радиальной, с ее шахматными полями на полу, суеверно стал прыгать с белой клетки на белую, с белой на белую, боясь, что если наступлю на черную, то.
Станция метро «Речной вокзал»Мы ехали по зеленой линии, станция за станцией — до самого конца, до «Речного вокзала», и у меня было вдоволь времени, чтобы понять, почему мама опять возвращается вместе со мной к отчиму на Левобережную. На ту самую Левобережную, где при всей ее природной красоте в заброшенных яблоневых садах шастают педофилы, а чуть подальше, слева от книжного магазина, в зарешеченное окошко психдиспансера выглядывают, ковыряя в носах, дебилы, обмазанные манной кашей.
В черно-белой последовательности тоннелей и станций, замечаемой мной как некое продолжение той самой шахматной доски, я думал о том, что и у мамы моей есть своя мама (об этой последовательности я — трехлетка — сказал однажды: «Вот какой паровоз получается!»), правда, я ее до сих пор не видел, но знал, что моя мама считала ее корнем всех проблем не только с отцом, сестрой и братом, но и с ее мужьями, включая нынешнего — дядю Глеба.
При том что дед проклял мою мать, мама моя зла на него не держала, зато бабулю она считала истинным кукловодом, накручивавшим всю жизнь деда против своих детей. Недели две назад я подслушал телефонный разговор мамы с бабулей и знал, что дед лежит дома в полукоматозном состоянии. «Ну, наконец-то ты его заполучила полностью в свои руки! — сказала тогда мама. — Теперь ты вольна делать с ним что тебе вздумается. И безо всякого сопротивления!» Я догадывался, что бабуля плачет в трубку и осыпает маму проклятиями. «Самое главное — не слушай теперь никаких врачей, а следуй своим священным знаниям, почерпнутым из газет! — не унималась мама, срываясь в истерику. — Ты ведь знаешь все лучше всех, обо всем ты читала в своих паршивых газетах! Сломала всем жизнь, рассорила нас между собой, зато теперь останешься одна-одинешенька, как паук, запутавшийся в своих сетях. — мама уже плакала, но никак не могла остановиться. — Теперь захочешь — напоишь его самогоном, захочешь — уморишь голодом, захочешь — вымоешь тройным одеколоном, не захочешь — изваляешь в собственном дерьме! Дерзай, матерь!»
Два плача шли по тысячекилометровым проводам друг навстречу другу и как два состава метро на открытом подземном участке с грохотом проносились один мимо другого. Я смотрел на свое темное отражение в темном стекле, и только две звездочки слез остро блестели в темноте, и в нее же срывались падучими.
Почему столько жестокости в мире? — думал я и не находил в себе ответа.
«Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу.» — процитировал смурно дядя Глеб, выходя в лес тонких колонн конечной станции, но я удивился не этим словам, а странному ощущению одинаковости всех этих станций с ребристыми, лестничноподобными потолками, как будто в этой беготне навзничь, я уже никогда не выберусь на белый свет.
Литера пятая
В июне дядя Назар окончательно сменил в маминой жизни дядю Глеба, и мы на время переехали к нему на староарбатскую квартиру, предназначенную на снос. Но, к счастью, все разъезжались: сначала мы с дядей Назаром, которого мама теперь просила называть «папой», провожали маму в аэропорт «Домодедово», откуда она должна была лететь в свою Сибирь, то ли в Абакан, то ли Тайшет, где заболела ее мама. Пока мы ехали на «Домодедовскую», мама успела рассказать дяде Назару всю жизнь своей матери, а я, будто бы разглядывавший книжку Эдуарда Успенского, на самом деле подслушивал их разговор.
Выходило так, что бабушка моя была не человеком, а сущим чудовищем. Причем незаметным. На поверхности она казалась заботливой матерью, которая могла позвонить в три часа ночи лишь потому, что ей приснился плохой сон о моей маме или обо мне. Но на самом деле, как говорила мама дяде Назару, не было на свете большего манипулятора, управлявшего своим мужем как марионеткой. «Это она накрутила отца против меня! — горячилась мама. — Это она рассорила меня с братом и сестрой, а их между собой! Брат мой женился уже на третьей, прежних двоих невесток выжила она, теперь брат сам съехал на Север, чтобы сохранить семью! И что ей неймется?! — спрашивала мама и сама же отвечала: — Душа у ней какая-то переверченная, какая-то безбожная. Другие со старостью становятся мягкими, покладистыми, покорными, но не эта.»
Где-то здесь я заметил, что мама хоть и бросает изредка взгляд на дядю Назара, но по существу разговаривает сама с собой, и это меня немного напугало. «Вон, оказывается, когда отец умирал, сестра рассказывает, что даже в полубессознательном состоянии он гаркнул ей однажды: „Опять ты все вертишься, мельтешишь перед глазами. Пропади ты пропадом!“
Я ужасался все больше и больше оттого, что мама моя говорит эти слова о своей маме, и думал: „Неужели и я когда-нибудь буду так же жесток по отношению к Москве — к своей собственной маме?“ — а этого я пугался еще больше и изо всех сил старался уткнуться в „Школу клоунов“, но наливающиеся огнем уши наверняка выдали бы меня, когда бы мама не была так погружена в свой рассказ о матери.
„Когда мне исполнилось семнадцать, я была готова сбежать куда угодно, с кем угодно, вот и приехала сюда „лимитчицей“. Дядя Назар — поскольку сидел в своей капитанской форме — лишь вежливо покивывал ей, все больше думая об окружающих и о том, какое впечатление на них производим все мы, а в особенности же разгоряченная мама. Правда, люди, как обычно, были заняты сами собой, и никто, казалось, кроме меня, не обращал внимания на слегка экзальтированный рассказ мамы.
За этими разговорами мы дотарахтели до станции „Домодедовская“, такой же типовой, как и все станции, построенные после маминого приезда в Москву. Но именно на этой, ничем не примечательной и обыденной станции мама неожиданно ни с того ни с сего набросилась на меня. „Ты думаешь я не видела, что ты подло подслушивал все, что я говорила?! Почему ты не читал свою говенную книгу? Ты хочешь, чтобы я оставила тебя здесь?! Ты добьешься этого!“
— она завела меня за одну из типовых колонн и стала тыкать меня головой в нее. „Ты будешь слушаться?! Будешь еще так?!“ Я не знал, как вести себя, ведь только начав кивать в знак согласия с ее первым вопросом, тут же оказался в заложниках ее второго вопроса, и мой кивок еще более взвинтил ее: „Ах, так? Ты еще будешь. Вот тебе за это! Вот тебе.“ Дядя Назар никак не вмешивался в происходящее, и если бы не следующий поезд, выскочивший с шумом из тоннеля, мама уж точно бы размозжила мне голову.
Я молча плакал, пока они вели меня, распятого за две руки, наверх, но наверху от этого плача остались лишь редкие судорожные всхлипы. По выходе из метро мы сели в маршрутку и поехали в аэропорт. Теперь всю дорогу мама молчала, теперь изредка заговаривал дядя Назар и просил ее не беспокоиться, отчитываясь то ли перед нею, то ли перед самим собой, что отправит меня на следующей неделе со всем детским садом в Зосимову Пустынь на летний сезон, что будет навещать меня и звонить маме.
В детстве не описываешь пейзажей, в детстве ими живешь. Особенно после обиды и после плача. Шоссе, вдруг взмывающее лентой вверх посреди зеленого бескрайнего российского поля и неожиданно на полном вздохе уносящееся вниз, под сосущую ложечку, и видишь, как эта черная лента обрастает вдали опушкой, туманом, рекой, а ты считаешь столбы по сторонам и восторгаешься натужными ЛЭП, уходящими, как груженые караваны, наискось. Небо, поле, лес, июнь.