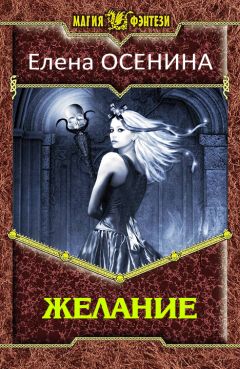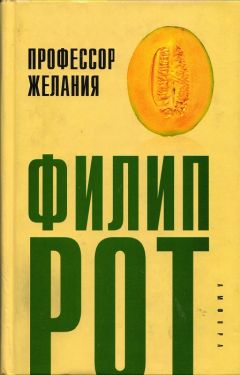Елена Арсеньева - Сыщица начала века
– Да, да, да! – нервически смеясь, восклицает Красильщиков. – Слушайте больше! Разве вы не видите, кто перед вами? А я вижу его насквозь. Это игрок! Он блефует, он бросает двойки, делая вид, что это козырные тузы. Не о чем беспокоиться! Он изображает бодрячка, хотя едва держится на ногах. Все, все здесь – чистейший блеф!
– Вам и в самом деле не о чем беспокоиться, господин Красильщиков, – покладисто сказал Смольников. – Вашего имени в телеграмме из Минска нет и быть не может – ведь вы коренной нижегородец, выезжали только до Астрахани пароходами своей компании «Кавказ и Меркурий». – Тут неподражаемо-ехидная ухмылка скользнула по губам Смольникова: видимо, он вспомнил, как пытался изображать из себя счетовода вышеназванной компании. – К вам почти нет вопросов, ведь в этой истории вы замешаны лишь постольку, поскольку были любовником Натальи Самойловой и мечтали на ней жениться, чтобы прибрать к рукам немалое наследство, доставшееся Наталье Юрьевне от покойного мужа, Николая Петровича Самойлова.
– Ну, это вы так думаете, – уклончиво отвел глаза Красильщиков.
– Хорошо, – опять не стал возражать Смольников. – Вы по-прежнему упорствуете во мнении, что я блефую?
– Да!
– И прочие господа в этом убеждены?
– Да, – угрюмо буркнул Вильбушевич, а Лешковский ничего не сказал, только кивнул.
– Тогда я назову два имени – только два из многих, которые перечислены в той телеграмме. Одно имя принадлежит женщине – это Стефания Любезнова. Второе – мужчине: Антон Харламов. Ну и как, господа Вильбушевич и Лешковский? Блефую я или нет?
Я невольно вздрогнула. Стефания Любезнова! О ней упоминал «Милвертон»!
– Все равно! Все равно! – выкрикнул Вильбушевич – истерично, с безумным видом, так не вязавшимся с его «округлым» обликом. – Что значат имена? Ничего! Вы можете знать имена, но вам неизвестно, что за ними стоит!
– Мне – известно, – веско проговорил Смольников. – И Сергиенко было известно… за что он и поплатился жизнью. Ну так как, господа? Прикажете выкладывать карты на стол?
Лешковский и Вильбушевич угрюмо молчали.
– Господа, подождите, – вдруг встрепенулся Красильщиков. – У меня есть мысль. Нам некуда спешить. Предположим, этот господин обладает какими-то опасными для нас сведениями. Нам надо решить, как быть с ними. Вполне возможно, что они могут и впрямь посеять меж нами рознь. Нужно ли нам это? Может быть, не дать Смольникову и вовсе рта раскрыть? Покончить с ним и с его дамой сразу? Или нам выгоднее пока оставить их в живых? Надо все хорошо обдумать. Но только не в присутствии этих двоих. Давайте их запрем в соседней комнате или в чулане, а сами хорошенько обсудим и линию поведения, и их дальнейшую судьбу.
– Они из соседней комнаты сбегут запросто, – проворчал Лешковский. – Уж тогда в чулане запереть, что ли. Да, вы правы, Красильщиков: в связи с услышанным нам и впрямь необходим тайм-аут, как выражаются шахматисты. Господа, – это он взглянул своими безжизненными светлыми глазами на нас со Смольниковым, – прошу вас проявить благоразумие и повиноваться. Идите, не заставляйте применять силу.
– А то что? – задиристо спросил Смольников.
Лешковский со вздохом потянул со стола вдвое свернутый газетный лист и взял в руки лежавший под ним револьвер:
– Он заряжен, стреляю я великолепно…
– Только не надо демонстраций, – с преувеличенным ужасом сказал Смольников. – Повинуюсь, но не из трусости, а из разумной осторожности. В той же телеграмме из Минска имеются и некоторые сведения о вашем увлечении стрельбой. Да вы небось господина Сильвио за пояс запросто заткнете! У вас ведь именно такое прозвище в Минске было, я не ошибаюсь?
Тень прошла по лицу Лешковского, он опустил голову и глухо повторил:
– Прошу не заставлять меня применять силу. Идите сюда.
Мы выходим из комнаты в узкие сени, поворачиваем на лестницу. Лешковский открывает дверку в какой-то чулан:
– Прошу сюда. Не пытайтесь сбежать, это бессмысленно.
Я успеваю заметить, что у неказистого чулана очень крепкая дверь с засовом, который через мгновение со стуком задвигается.
Несколько секунд мы стоим, буквально не дыша, за дверью тоже тихо. Я знаю, что Лешковский не ушел – судя по всему, выжидает, не ринемся ли мы тотчас вышибать дверь своими телами.
Отчего-то при этой мысли мне вдруг становится невыносимо смешно. Понимаю – это нервная реакция на то жуткое напряжение, в котором я пребываю вот уже который час, но не в силах удержать мелкого, истеричного хохотка. И чувствую, что, начавши хохотать, уже не могу остановиться, так и заливаюсь.
Глаза уже немного привыкли к темноте, смутно вижу, что неподвижная фигура Смольникова рядом шевельнулась, потом чувствую прикосновение его плеча.
– А ну-ка, успокойтесь, Елизавета Васильевна, – говорит он. – Успокойтесь, слышите? Понимаю, вам сегодня досталось столько, что и мужчину с ног свалит. А вы всего лишь женщина…
При звуке этих столь знакомых и ненавистных слов я моментально овладеваю собой. Глубоко вздыхаю, чтобы подавить судороги в горле.
– Ну вот, – удовлетворенно бормочет Смольников. – Я так и знал, что это подействует!
И тут до моего слуха доносятся едва слышные удаляющиеся шаги. Итак, Лешковский тоже удовлетворен нашим поведением!
– Ага, ушел, – говорит Смольников. – Отлично! Давайте-ка с пользой проведем время, Елизавета Васильевна. Для начала развяжем друг другу руки.
Он поворачивается ко мне спиной, я нашариваю его пальцы, ладони, веревки, которыми они скручены. Веревок-то много, однако узел слабый.
– Ага, неплохо я постарался, – гордо сообщает Смольников. – Запястья чуть до крови не стер, но узел изрядно расшевелил.
Да, не прошло и пяти минут, как мне удалось растянуть путы настолько, что Смольников высвободил сначала одну руку, потом другую и блаженно вздохнул:
– Какое счастье! Елизавета Васильевна, спасибо, радость моя! Никогда в жизни, кажется, не смогу больше ходить, заложив руки за спину! Ну, теперь ваш черед.
С моими путами хлопот побольше. Платок тонкий, шелковый, узел затянулся накрепко, Смольников, очевидно, боится причинить мне боль, поэтому возится долго. Его горячие пальцы касаются моих похолодевших ладоней, и я не могу удержаться – то и дело вздрагиваю от этих прикосновений. Наконец он опускается передо мной на колени и пытается перегрызть платок. Теперь я ощущаю прикосновение его влажных губ и щекочущих усов. Странно – мне кажется, это длится долго-долго… я совершенно теряю ощущение времени. Тьма сомкнулась вокруг, я слышу только свое и его дыхание, прикосновение его рта к своим ладоням, его плеч – к своим ногам.
Меня вдруг ощутимо начало пошатывать. Наверное, потому, что я слишком долго стою неподвижно.